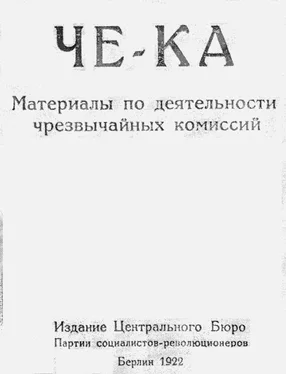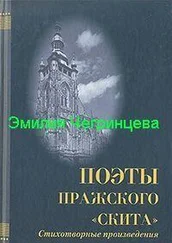Но в эти тяжелые и полные глубокого трагизма месяцы, среди вынужденного безмолвия и тупой подавленности дважды раздался набатный голос возмущенной народной совести и заставил на минуту весь мир обратить свои взоры туда, где бездонное горе и ненасытная смерть становились «бытовым явлением» русской жизни.
Встал во весь свой гигантский рост Лев Толстой и произнес незабываемые слова о намыленной веревке палача и о своей готовности разделить участь распинаемого народа.
Выступил чуткий, как сама народная совесть, Короленко и приоткрыл завесу на бесконечный лес перекладин — чудовищный лес, которым, словно в сказке, стала зарастать русская земля. И в унисон этим набатным взволнованным голосом прокатился по всей стране сочувственный стон — протест, ибо в те времена люди не утратили еще способности чувствовать, и всесильная смерть не убила в них воли и жизни.
Это было пятнадцать лет тому назад, в дни победного торжества царской династии, в дни гибели первой революции…
И вот теперь, спустя вереницу прожитых лет, снова царит над Россией самовластная смерть, и снова страна, бессильная и распятая, истекает кровью.
Но от края до края Российской земли не слышно уже голосов народной взволнованной совести, не видно гигантов духа, дерзающих сказать Смерти властное: «Остановись.»
Что случилось с народной душой? И что значит ее мертвенное безмолвие?
Мы пережили Великую Русскую Революцию с ее светлыми днями и грандиозными катастрофическими периодами. Мы пережили четыре года большевистской диктатуры, перед которыми бледнеет, может быть, французский 93-й год. И мы знаем своим потрясенным разумом и мы видели своими помутившимися глазами то, чего не знали и не видели десятки прошлых поколений, о чем смутно будут догадываться, читая учебники истории, длинные ряды наших отдаленных потомков…
Нас не пугает уже таинственная и некогда непостижимая Смерть, ибо она стала нашей второй жизнью. Нас не волнует терпкий запах человеческой крови, ибо ее тяжелыми испарениями насыщен воздух, которым мы дышим. Нас не приводят уже в трепет бесконечные вереницы идущих на казнь, ибо мы видели последние судороги расстреливаемых на улице детей, видели горы изуродованных и окоченевших жертв террористического безумия, и сами, может быть, стояли не раз у последней черты.
Мы привыкли к этим картинам, как привыкают к виду знакомых улиц, и к звукам выстрелов мы прислушиваемся не больше, чем к гулу человеческих голосов.
Вот почему перед лицом торжествующей Смерти страна молчит и из ее сдавленной груди не вырывается стихийный вопль протеста, или хотя бы отчаяния. Она сумела как то физически пережить эти незабываемые четыре года гражданской войны, но отравленная душа ее оказалась в плену у Смерти. Может быть, потому расстреливаемая и пытаемая в застенках Россия сейчас молчит…
***
Большевистский террор имеет уже свою историю.
Если в первые два года после октябрьского переворота большевики любили становиться в вызывающую позу Робеспьера, а доморощенные Мараты ненасытно требовали крови и крови; если самый террор этих лет был демонстративно кричащим, бесформенным и стихийным, то, по мере овладевания государственным аппаратом, носители диктатуры чувствовали все большую и большую необходимость ввести террор в определенные рамки, подчинить его соответствующим органам, а главное — сделать его менее шумным, внешне менее заметным.
Эта необходимость диктовалась не только опасностью для самой власти увязнуть и захлебнуться в ею же вызванной кровавой анархии.
Одинокая в своих социальных экспериментах, не признанная мировыми державами и безнадежно отдаленная от них огневой завесой террора, эта власть предчувствовала роковые последствия своего одиночества и беспокойно искала выхода. Тогда стал складываться своеобразный режим советского «правового порядка» — этот циничный двуликий Янус, одним ликом подобострастно глядящий на Европу, а другим — на Азию диких Монголов. Тогда из глубины коммунистических застенков стали законности», а в «Собрании узаконений и распоряжений правительства» появился бесстыдный декрет об отмене смертной казни…
Террористическое чудовище, в угоду Европе, облачилось в белые человеческие одежды, но под этими одеждами продолжали скрываться хищные когти зверя и ненасытная душа каннибала.
Террор не ушел из жизни. Но с городских площадей и окровавленных тротуаров он укрылся в мрачные подземелья чрезвычаек, чтобы там, за непроницаемыми стенами, вдали от человеческой совести, беспрепятственно творить свое черное дело.
Читать дальше