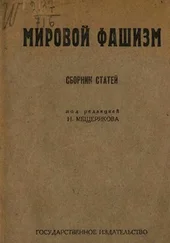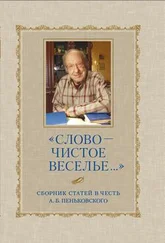Во второй свой приход в Париж, после знаменитых «Ста дней», в 1815 году, он нанес этому войску еще более чувствительную обиду. Заметив во время церемониального марша гвардейской дивизии, что некоторые солдаты сбились с ноги, он приказал двух заслуженных командиров полков посадить под арест. Само по себе это еще не представляло ничего необычного; одиозность заключалась в том, что арестовывать провинившихся должны были англичане, и содержаться они должны были не на русской, а на английской гауптвахте. Напрасно Ермолов умолял лучше в Сибирь их сослать, чем подвергать такому унижению русскую армию. Император остался непреклонен.
До офицеров часто доходили презрительные отзывы государя о своих подданных; каждого русского он считал [177] либо плутом, либо дураком. Никаких заслуг за ними не признавал. Когда во время смотра русской армии при Вертю герцог Веллингтон отозвался о ней с чрезвычайной похвалой, Александр во всеуслышание заметил, что всем обязан исключительно иностранным офицерам, состоявшим у него на службе. Казалось, в нем воскресли замашки его гольштейн-готторпского деда Петра III. Обнаружилась резкая разница в обхождении с русскими и с иностранцами. Полковник Михайловский-Данилевский свидетельствует об обворожительной любезности царя всякий раз, когда у него бывали иноземцы, и о резкой перемене тона, как только они уходили. С оставшимися русскими Александр начинал обращаться, как помещик со своей дворней после отъезда гостей.
Принимая с наслаждением овации парижан, он не захотел приветствий и рукоплесканий своего собственного народа. В Петербурге воздвигались к его приезду триумфальные арки, сооружался фейерверк и иллюминация, но он еще с дороги прислал высочайший рескрипт на имя петербургского главнокомандующего Вязьмитинова с запрещением каких бы то ни было встреч и приемов. Приехал в Петербург в семь часов утра, с таким расчетом, чтобы его никто не видел. Только когда прибыла морем гвардия, высадившаяся у Ораниенбаума, он не мог отказать ей в почетной встрече, каковая и состоялась 11 августа 1814 года.
* * *
Париж был взят не для славы России, а для славы «нового Агамемнона», который всё делал, чтобы забыли, чей он царь, и видели бы в нем только доброго и светлого «императора Александра». Он один красовался перед Европой, ничего не щадя, ничего не жалея для снискания симпатий ее народов, особенно французов и поляков.
Первым его делом, по приезде в отвоеванное Вильно в 1812 году, было — снять особым манифестом всякую вину с литовских и белорусских поляков за их измену и переход на сторону неприятеля. Позднее, в письме к князю Адаму Чарторийскому, он признавался, что сделать это было не легко по причине сильного озлобления в русском обществе. [178] Из всех двунадесяти языков, пришедших с Наполеоном, поляки отличились наибольшими грабежами и зверствами по отношению к русскому населению, на котором вымещали свою досаду за раздел Польши. Кутузов дожидался приезда царя, чтобы предложить ему на подпись указ о конфискации панских имений с тем, чтобы наградить ими офицеров, отличившихся в Отечественной войне.
Но расположение поляков императору было дороже крови своих подданных. В обращении к жителям Герцогства Варшавского говорилось: «Вы опасаетесь мщения? Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит»..
Амнистия эта поразила даже либералов. Лагарп писал Александру: «При другом государе, половина Польши была бы конфискована без всякого нарушения законов и установленных обычаев, но Ваше величество нашли средство быть милостивым там, где другие усмотрели бы повод для наказания».
12 января 1813 года подобная же амнистия объявлена была курляндским изменникам. Никогда, однако, не было объявлено ни об амнистии, ни о смягчении участи того небольшого числа русских, что провинились перед отечеством во время нашествия Наполеона. Они были, по всем правилам, отданы под следствие и суд.
* * *
Со стороны русских государственных деятелей немало было возражений против похода на Париж. Сам главнокомандующий М. И. Кутузов считал его делом антирусским и пребывал, по этому поводу, в постоянных противоречиях с императором. Насколько эти противоречия были остры, можно судить со слов чиновника Крупенникова, находившегося в комнате умиравшего фельдмаршала, в Бунцлау, и слышавшего последний разговор его с царем.
— Прости меня, Михаил Илларионович!
— Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит.
Читать дальше