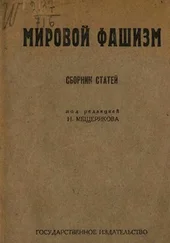Но это пассивное, так сказать, поощрение — ничто в сравнении с активными попытками некоторых эмигрантских политических групп «использовать» литературу, как якобы мощное орудие борьбы с большевиками.
* * *
Не переоценивается ли, однако, роль искусства в политической борьбе?
Пока оружия не сложит
Раздутый спесью швабский гном,
Пусть каждый бьется тем, чем может —
Солдат штыком, поэт — пером!
Такое разделение труда, предложенное Н. Агнивцевым в 1914 году, как мы теперь знаем, не оправдало себя. Настоящие поэты, вроде Гумилёва, предпочли, попросту, пойти на войну и биться штыком. Оставшиеся в тылу бойцы пера, несмотря на груды патриотических стихов, ни в какой мере победе не способствовали. До тех, кто бился штыком, их стихи попросту не доходили; они не дали русской армии даже достойной песни. Солдаты шли на войну и умирали под «Соловей, соловей, пташечка!» и «Цыганочка черноока». Столь же мало способствовали победам Красной Армии — пролетарские поэты. В дни гражданской войны красноармейцы пели песни старой царской армии, в которых лишь несколько неподходящих слов были заменены или переставлены. Песни со сколько-нибудь новым содержанием стали появляться в самом конце гражданской войны, да и то виной тому были не поэты, а само красноармейское творчество, вернее, творчество безвестных политруков и комиссаров. [36]
Ты, конек вороной,
Расскажи дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.
Песня, написанная профессиональными поэтами и музыкантами, появилась в советской армии не раньше 30-х годов. Для второй мировой войны она была уже устаревшей. В этом есть своя закономерность. Не только искусство, но сама военная мысль не в силах поспевать за темпами борьбы. «Мы узнаем стратегические правила, когда война уже окончена», заметил Гёте. В войнах, революциях, переворотах, во всех крупных событиях, искусство физически неспособно участвовать. Только несколько случаев можно отметить, когда нужные для борьбы слова и музыка появлялись вовремя и играли какую-то действенную роль. Но это случалось раз в несколько столетий. В новое время мы вряд ли можем назвать что-нибудь, кроме хорала Мартина Лютера и «Марсельезы» Руже де Лиля. Все другие войны и революции сопровождались случайными произведениями искусств, возникшими не для данной цели и не выражавшими сущности события, либо настолько примитивными, что мерка искусства к ним совсем неприложима. Нам известна, например, огромная роль боевой песни в войнах древних германцев; римские писатели свидетельствуют, что трудно было устоять против этих варваров, когда они ее затягивали. Но эта песня состояла всего из одного слова, по-видимому, совершенно случайного, которое повторялось без конца в такт напева. Его выкрикивал сначала один человек, к нему присоединялись другие голоса, потом, подхваченное всем войском, оно росло, усиливалось, превращалось в рев бури. Видимо, песня в борьбе не столько воспламеняет, сколько сама является результатом воспламенения. Отсюда ее неприхотливость. Если вспомнить, чем вдохновлялось русское революционное подполье — все эти «Рабочие марсельезы», «Варшавянки», «Смело, товарищи, в ногу», которые по своему художественному достоинству не многим выше прежних солдатских песен, то возникает вопрос: так ли уж важно искусство для целей политической борьбы? За немногими исключениями, она всегда обходилась без него. Товарищи Кржижановские или запевалы первой роты, кропавшие стишки и клавшие их на популярные опереточные мотивы, либо [37] на мотивы народной песни, делали ненужным участие в борьбе Брюсовых, Блоков, Мандельштамов и Маяковских. Что-то жалкое и трагическое чувствовалось в судьбе тех больших художников, которые, подобно Брюсову и Маяковскому, пытались участвовать в борьбе как поэты. Те, кого они собирались осчастливить своим гением, в глаза им говорили о бесполезности усилий, о недоходчивости их стихов до рабочего и крестьянина. Всем соловьям, желавшим петь для социализма и революции, Троцкий предлагал познакомиться «с нашим петухом» — Демьяном Бедным и поучиться у него. Брюсов и Маяковский так и умерли, не сравнявшись с этим бесподобным поэтом.
Их постигла судьба соловья из Щедринской сказки «Орел меценат», не выдержавшего состязания со скворцом Василием Кирилловичем Тредьяковским. Тематика у соловья была «правильная». «Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают… Однако, как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с „искусством“, которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был, да „искусство“ в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш! Что этот дуралей бормочет, — крикнул он наконец, — позвать Тредьяковского! А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: имянно! имянно! имянно! И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: убрать негодяя!»
Читать дальше