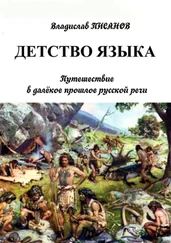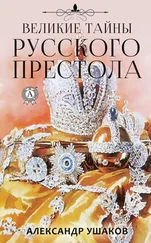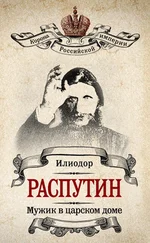Таким образом, большинство царских дочерей оставались навеки девицами, призванными провести жизнь в теремном затворничестве и посвятить ее благочестивым делам. Они общались преимущественно с представителями духовенства, покровительствовали монастырям и отдельным храмам и непрестанно молились за свою землю и за грехи отца и братьев.
Как мы видим, царские дети должны были расти, надежно спрятанными от дурного глаза и житейских бурь. Их растили, как комнатные растения, не знающие ни голода, ни жажды. Их почти не касались людские пороки, зависть, злость и недоброжелательство: если дети и видели что-то подобное, то лишь во взаимоотношениях своей челяди. Почти отсутствовали и сильные впечатления: дети надолго (а девочки навсегда) помещались во внутридворцовое «мелкотемье», в замкнутый и душноватый мирок теремов с их постоянным набором лиц, событий и обстоятельств.
Уклад и строй старинной царской детской оказался очень живуч и в общих чертах благополучно просуществовал до младенческих лет Павла I, то есть до второй половины XVIII столетия.
Такова была идеальная модель жизни царских детей в XVI–XVII веках. Действительность совпадала с ней не всегда. Начать с того, что несколько русских государей этого времени — Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов — были «избранниками», рожденными в простой доле, и воспитывались не по-царски, а по-боярски. К царствованию их, разумеется, не готовили. Не сразу стали воспитывать как царских отпрысков и детей Бориса Годунова. Когда их отец взошел на престол, Федору было десять лет, а Ксении — двенадцать. Однако отец сразу и очень серьезно занялся ими, и в итоге дети получили прекрасное, редкое по тому времени образование. Дядькой Федора был весьма ученый человек И. И. Чемоданов, служивший до этого в Посольском приказе. Под его началом царевич изучал всякие премудрости, даже «естествословие философское», постоянно «упражнялся в благочестии, злобу, мерзость и всякое нечестие ненавидел». Современник писал о Федоре: «Научен же бе от отца своего книжному почитанию, и в ответах дивен и сладкоречив вельми; пустотное же и гнило слово никогда же из уст его не исходяше; о вере же и научении книжном со усердием прилежа…» Юношу учили географии и истории. «Любопытным памятником географических сведений сего царевича, — писал Н. М. Карамзин, — осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 г. немцем Герардом». Ксения же была «писанию книжному искусна», отличалась красноречием, любила пение: «гласи воспеваемые любляше», как выражался тогдашний хронограф, а современник, английский бакалавр Ричард Джемс, записал тогда же песни, особенно любимые Ксенией и ею якобы сочиненные. Была Ксения и искусной рукодельницей — в музеях хранится несколько приписываемых ей работ.
Не слишком совпадало с моделью воспитание младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия Угличского (двое старших росли в высшей степени чинно). Во всяком случае, к моменту гибели, на десятом году, когда он давно уже должен был находиться на попечении дядьки-воспитателя и вовсю учиться, Димитрий (возможно, вследствие падучей болезни, которой страдал) все еще жил на женской по ловине, на попечении няньки и кормилицы, а дядьки в штате не имел.
Тяжелое детство было и у самого Ивана Васильевича — первого, официально принявшего на себя царский титул. Он остался без отца в три года, без матери —
в неполных восемь лет, и, разумеется, нормальный ход событий этим сиротством был сбит.
Долгожданный наследник, он появился на свет, когда отец его, великий князь Василий III, совсем отчаялся иметь детей: его первый брак с Соломонидой Сабуровой был бездетным, а во втором, с Еленой Глинской, первенца пришлось ждать более трех лет. На радостях великий князь не только роздал множество наград и подарков, но и снял опалу с целого ряда своих приближенных.
Крестить Ивана родители отправились в Троице- Сергиев монастырь. Крестных отцов-восприемников — сразу троих — для княжича выбрал сам Василий III. Именно по его настоятельному желанию крестным отцом Ивана стал один из самых почитаемых старцев Иосифо-Волоколамского монастыря — любимой обители Василия — Кассиан Босой. Старца, глубокого старика, «яко младенца привезоша» и во время совершения обряда постоянно поддерживали под руки два троицких инока. Другим крестным отцом стал хорошо известный великому князю игумен Троицкого монастыря в Переславле-Залесском Даниил, вскоре после смерти причисленный к лику святых. Третьим восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря Иев Курцов.
Читать дальше
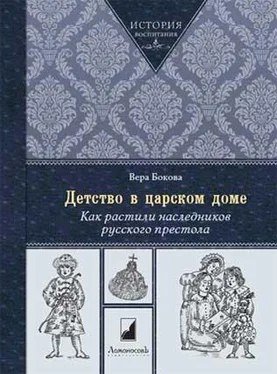
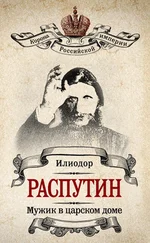
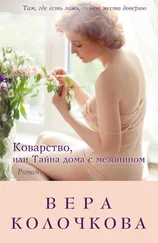




![Оксана Алексеева - Наследник черного престола [СИ]](/books/409580/oksana-alekseeva-naslednik-chernogo-prestola-si-thumb.webp)