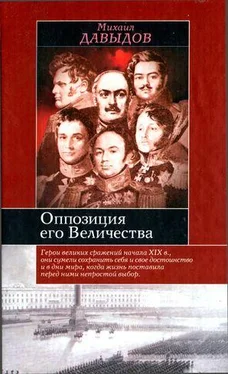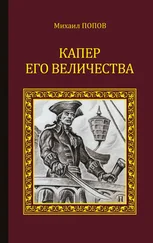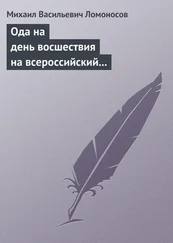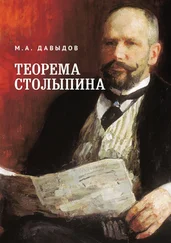Характерно, что Сперанский отнюдь не оспаривал российской специфики в широком смысле и вовсе ею не пренебрегал. В некоторых важных моментах они близки друг другу. Так, и Сперанский, и Карамзин согласны, что Россия — не Запад, что соразмерно территории и нравам народа власть царя должна быть большей, чем в других государствах Европы, что самодержавие в строгом смысле не монархия, что законов в России нет, а есть указы (хотя Карамзин, несколько противореча сам себе, утверждает, что и указы — это законы), что государь должен быть добрым, что нужно время для исправления нравов, что поспешность в реформах вредна и что перемены нужны лишь в случае крайней необходимости. Однако из этого делались совершенно разные выводы. Карамзин настаивал на сохранении самодержавия потому же, почему Сперанский хотел его реформации. Французская революция привела часть мыслящих русских людей (хотя и немногих) к совсем другим мыслям, нежели Карамзина и иже с ним.
Пыпин был совершенно прав, когда писал, что Карамзин привел «все возражения, какие можно было сделать против… такого установления конституционных учреждений, о каком тогда думали. Эти возражения очень сильны, и для тогдашних отношений справедливо указывали если не на невозможность, то чрезвычайную затруднительность предприятия. Но мысль, отчасти верная для данной минуты, заключала в себе ту всегдашнюю ошибку фанатического консерватизма, что Карамзин решал за будущее» [156].
Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя.
М. М. Сперанский
Позиция Карамзина не будет понятна до конца без обращения к крестьянскому вопросу.
Напомним слова Ермолова: «У нас народ удобен рассуждать исключительно в свою пользу, которую весьма понимает и по малому еще образованию не допускает совместность польз другого состояния людей, а потому власть дворянства есть необходимая сила для удержания равновесия, и выгода правителя состоит в точном определении сей силы, ибо чрезмерность с той или другой стороны лишает его власти, ему приличествующей…» Царь, дворянство и крестьяне образуют жесткий каркас, своего рода равнобедренный социальный треугольник, где существующее в данное время положение каждой силы-вершины зависит от двух других, и потому-то только и существует эта структура. Малейшее изменение чревато ее разрушением. Важно, что правитель как бы отстранен и от тех, и от других, для него опасно чрезмерное влияние не только крестьян, но и дворян. То есть царь рассматривается как сила, стоящая над подданными, — он и связующее звено, и посредник одновременно. Эта точка зрения была весьма распространена среди дворянской интеллигенции того времени. Кстати, также оценивали роль императора и сами крестьяне, для них он был единственной силой, способной защитить их от произвола помещиков. Другими словами, крепостничество, наряду с самодержавием, являлось «палладиумом».
Далее. Что стоит за примечательными словами «совместности польз другого состояния людей», которую не понимают необразованные покуда крестьяне.
Неужели Алексей Петрович всерьез думал, что крепостничество полезно крестьянам? Или же это искреннее заблуждение большого ума?
Почти за сто лет до попытки образования «Общества для освобождения крестьян» В. Н. Татищев писал, что вольность крестьян и холопей нужна и полезна в других государствах, однако в России она «с нашею формою монархического правления не согласует и вкоренившийся обычай неволи переменить не безопасно» [157]. А вот как говорил И. Н. Болтин, опровергая критику Леклерком российского крепостничества: «Во всяком ли состоянии, во всякое ли время и всякому ли народу одинакая приличествует свобода, или по различию оных с некоторым исключением, изъятием, с некоторыми условиями, предписаниями, правилами?» Решалась эта проблема Болтиным без лишних затруднений: «Земледельцы наши прусской вольности не снесут, германская не сделает их состояния лучшим, с французской помрут они с голода, а английская низвергнет их в пучину погибели». Характерно, что и вопрос о том, является ли крепостничество злом, Болтиным не выяснен, как и другими его единомышленниками: «Правда, что состояние помещичьих крестьян не всех есть равное, некоторые из них по жестокосердию и нечувствительности господ их обременены оброками и работами тяжкими и едва сносными; но большая часть и из сих живут в довольстве и покое, следовательно, и не признают состояния своего несносным» [158]. Освобождение крестьян Болтин относил на отдаленное время, когда крестьяне «созреют» для свободы.
Читать дальше