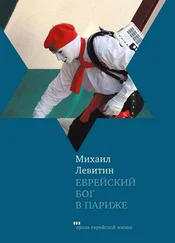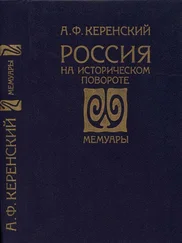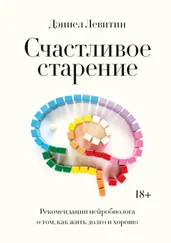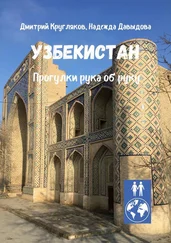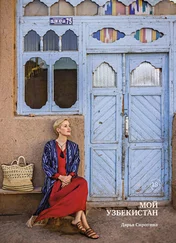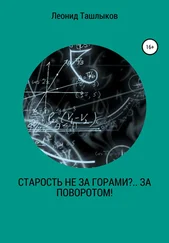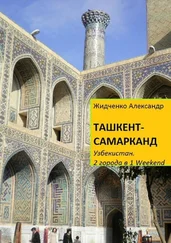Как я уже сказал, отношения мои с Президентом Узбекистана, впрочем, так же как и со многими другими лидерами бывших союзных республик, складывались по принципу "ни тепло ни холодно". Но однажды, после весьма любопытного заседания Совета Президентов, полного разноголосицы, ко мне подошел Ислам Каримов и сказал: "Честно говоря, Александр Николаевич, я плохо представлял суть ваших взглядов, очень сожалею, что понимание это пришло ко мне с запозданием".
Признание порадовало меня, отозвалось теплом в душе. Мы еще поговорили какое-то время о разных разностях, но суть их мне не запомнилась. Каримов пригласил меня в Узбекистан. Но так случилось, что позже Узбекистан оказался вне поля моего непосредственного интереса.
Конечно же, я не один раз слышал и читал в российской печати разные байки по среднеазиатским проблемам, но не скажу, что они как-то убеждали меня, ибо очень часто носили односторонний характер, нередко выползали наружу старые имперские предрассудки, известное менторство. Чувствовалось, что многие критики в России смотрят на Среднюю Азию, на события в ней с определенных высокомерных позиций, все время примеряя те или другие факты к европейским традициям, к мышлению элитарной российской интеллигенции. Особенно это касалось прав человека, которые, по их мнению, могут в одночасье быть очищенными от тысячелетних традиций, многовековой истории, сути и характера самого народа, его привычек, религиозных верований и т.д. Но такого не бывает. Нет подстриженных под одну гребенку прав человека. Каждая болезнь требует своего лекарства. Поэтому подобные рассуждения меня всегда настораживали, но, к сожалению, мои постоянные порывы проехать по республикам Средней Азии и самому посмотреть, что же происходит там на самом деле, не были осуществлены. Повторяю, к сожалению.
Ислам Каримов избрал путь модернизации страны на основе соединения прошлого с будущим. Он хорошо понял, что эффективность универсальных институтов модернизации зависит от конкретных условий тех или иных государств, от социокультурных традиций того или иного народа, связанных с преемственностью, но в то же время нацеленных на будущее. "Сама жизнь убедительно доказывает, - пишет президент, - что только образованное, просвещенное общество оценит все преимущества демократического развития и, наоборот, малообразованные, невежественные люди предпочитают авторитаризм и тоталитарную систему". Прекрасные слова, свидетельствующие о понимании сути вопроса. Они мне напоминают и мою Россию, где сегодня обозначились признаки ползучего регресса демократического развития, диктуемого как раз малообразованной и невежественной частью населения, в хвосте которого удобно пристроилось нынешнее чиновничество.
Большой интерес, с моей точки зрения, представляют мысли автора о месте традиционного и современного местного самоуправления. Это давний вопрос. О нем без конца толкуют и в России - и в дореволюционные времена, и во время сталинского фашистского государства, и сегодня. Как всегда было в истории, номенклатурная власть, которая имеет прочную корневую систему, не хочет мириться с тем, чтобы люди сами управляли своими делами, без вмешательства бюрократии, без государства. И только в этом случае человек станет главным в системе человеческого общежития, а не подневольным винтиком государственной машины. Чем меньше государства, тем больше человека.
И в этой связи я с особым вниманием вчитываюсь в рассуждения автора книги о положении бюрократии в Узбекистане, о метаниях постсоветской номенклатуры, которая не хочет мириться с поражением, суетливо примеряет к себе разные политические одеяния, чтобы вернуть власть.
Автор дает глубокий анализ разных группировок бывшей номенклатурной челяди, их взглядов, мотивов, действий. Эта тема тревожит меня больше других, ибо основную угрозу для развития гражданского общества в России я вижу именно в лице постсоветской, в том числе "демократической", номенклатуры, которая моментально забывает об оппозиции, о "взглядах", обо всем на свете, как только получает должностной стульчик во власти.
После падения КПСС номенклатура очень быстро перестроилась и выступает сегодня консолидированной силой в надежде по кусочкам вернуть старые порядки. Конечно, она не собирается следовать большевистским химерам, она просто хочет устроить для себя удобную жизнь, и больше ничего. Эта новая бюрократия не слабее старой, напротив, она укрепилась, ибо стала бесконтрольной. Ядро аппарата составляет бывшая партгосноменклатура, чуть разбавленная профессионалами среднего уровня, которые охотно приняли правила игры своих подельников.
Читать дальше