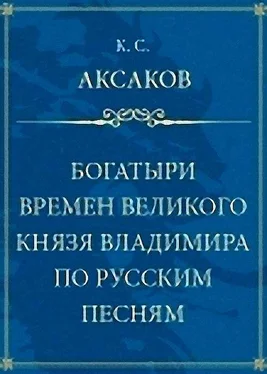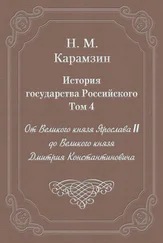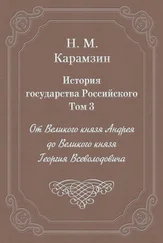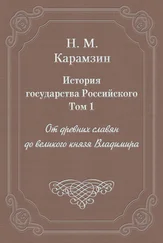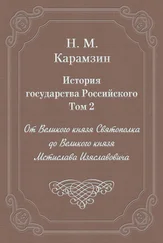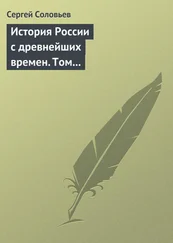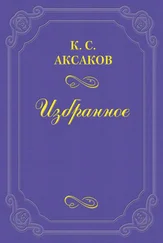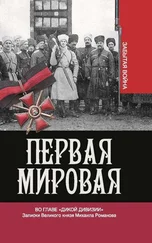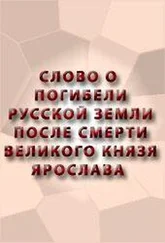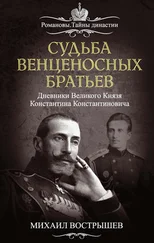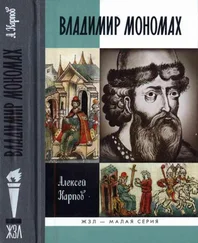Гуляя по улицам киевским, Добрыня выстрелял из лука по голубям, сидевшим под косящатым окном на тереме Марины Игнатьевны.
А вспела ведь тетивка у туга лука,
Взвыла да пошла калена стрела.
Но поскользнулась его левая нога, дрогнула правая рука, не попал он в голубей, а попал в окошко, расшиб зеркало стекольчатое, пошатнулись белодубовые столы, плеснулись питья медвяные. Марина умывалась в это время, сильно разгневалась и, чтобы наказать Добрыню, взяла его следы молодецкие, положила на огонь вместе с дровами и приговаривала, чтобы так же разгоралось сердце у Добрыни Никитича. Приговор подействовал: хлеба не ест и не спит Добрыня. Рано поутру пошел он к заутрене и оттуда пошел на широкий двор к Марине, там увидел он Змея Горынчища (следовательно, Змей ожил, как ту же способность имеет и Тугарин Змеевич) и
Тут ему за беду (обиду) [13] Здесь и далее в скобках и курсивом отмечены пояснительные слова К. Аксакова. — Прим. ред.
стало.
Добрыня взбежал на красное крыльцо, ухватил бревно в охват толщины, взбежал на сени косящатые. Марина и Змей подняли брань и угрозы на Добрыню, но Добрыня выхватил свою саблю {В песнях везде употребляется сабля, а не меч; эта замена, вероятно, следствие козацкого влияния или вообще времен позднейших. Оружие древних славян был меч. Когда козаре пришли войною на полян и потребовали дани, то поляне дали от дыма меч. Не добра эта дань, князь, сказали своему князю козаре, мы деремся оружием острым с одной стороны, т‹о› е‹сть› саблями, а их оружие обоюду остро, то есть меч. (П‹олное› с‹обрание› р‹усских› л‹етописей›. Т. 1, стр. 7.)}, и Змей побежал, поджавши хвост, не слушая слов Марины, его удерживавшей. Но Марина в гневе обратила Добрыню в гнедого тура и пустила его далече во чисто поле к девяти другим турам, тоже превращенным богатырям:
Что Добрыня им будет десятый тур,
Всем атаман — золотые рога.
Пропал без вести Добрыня Никитич, но на пиру у князя Владимира расхвасталась Марина своей мудростью и разболтала, что обратила девять богатырей и десятого Добрыню в гнедых туров. Слушали эти речи похваленые и мать Добрыни Афимья Александровна, и крестная мать его Анна Ивановна. Видя горесть матери и сама раздраженная похвальбою Марины, Анна Ивановна кинулась на Марину, сбила с ног и била, приговаривая, что она мудренее ее, что она обернет ее сукою:
Женское дело прелестивое,
Перелестивое, перепадчивое.
Марина обернулась касаточкой, полетела в чистое поле, села к Добрыне на правый рог и говорит ему:
Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле,
Тебе чистое поле наскучило
И зыбучие болота напрокучили.
Хочешь ли жениться, возьмешь ли меня?
"А право, возьму, ей-богу, возьму, — отвечает Добрыня, — да еще дам тебе поученьице". Обернула Марина Добрыню опять добрым молодцем, сама обернулась девицею; венчались они вокруг ракитова куста — указание на языческий обычай, за которым следовало (как видно из песен) и настоящее христианское венчание. Добрыня, может быть с намерением, или остается только при одном языческом обычае, или не спешит христианским венчанием. Пришел Добрыня вместе с Мариной в ее терем и говорит: "Гой еси, моя молодая жена, у тебя в тереме нет Спасова образа,
Некому у тя помолитися,
Не за что стенам поклонитися.
Чай моя острая сабля заржавела".
Сказав это, начал Добрыня учить свою жену. Первое ученье — отрубил ей руку, приговаривая: "Не надобна мне эта рука, трепала она Змея Горынчища", — потом, также приговаривая, отрубил ей ногу, наконец и голову с языком, сказавши:
А и эта голова мне ненадобна,
И этот язык мне ненадобен;
Знал он дела еретические.
Такая строгая казнь, совершенная с полным спокойствием Добрынею, не может служить определением его нравственного образа и кидать на него тень обвинения в жестокости. Это обычай всех богатырей того времени; будучи не личным делом, а обычаем, подобный поступок лишен злобы и свирепости, вытекающих уже из личного ощущения. Где постоянно играют палицы, копья и стрелы, там главное дело подвиг, а жизнь становится делом второстепенным, и большего уважения к ней не оказывается. Надобен уже личный подвиг духа, чтобы возвыситься над воззрением, зависимым от своего времени, к истине воззрения, независимого ни от какого времени. Добрые и прямые, но часто суровые, богатыри все подчинены своему времени, в нем ходят и действуют. Один из них стоит выше всех их, и по силе руки, и по силе духа, один возвышается над удалым временем разгула силы физической, один как можно реже прибегает к ней, один вполне щадит жизнь человека и вполне благодушен и кроток — это крестьянин, богатырь Илья.
Читать дальше