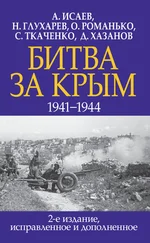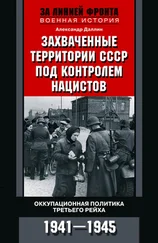Следует признать, что это заседание было огромным тактическим успехом Кырымала и его команды. Теперь они могли с полным правом сказать немцам, что представляют не только эмигрантов, но и весь крымско-татарский народ: большой «плюс», которым не могло похвастаться ни одно из национальных представительств. Эта поездка и ее результаты привели к тому, что теперь Министерство по делам оккупированных восточных областей de jure подтвердило то, что фактически уже существовало. Штаб Кырымала был признан единственным представителем интересов крымско-татарского народа и стал теперь официально именоваться Крымско-татарский национальный центр. Это произошло в январе 1943 года. А уже в ноябре того же года при министерстве Розенберга был создан специальный Крымско-татарский отдел (Krimtataren Leitstelle), который и должен был давать указания Кырымалу и его людям.
По трагической случайности первым совместным шагом руководителя отдела доктора Корнельсена и Кырымала стала их попытка избрать крымского муфтия. О том, как это происходило и к чему привело, было подробно рассказано выше. Здесь можно только добавить, что принять сан муфтия Озенбашлы уговаривал именно Кырымал. Для этого он специально летал в Бухарест, но так и не смог ничего сделать, чтобы заставить старого националиста встать на пронемецкую позицию.
Еще одним направлением работы Кырымала в этот период стали попытки спасти крымско-татарский актив. Наступал 1944 год, и все понимали, что рано или поздно Красная армия освободит полуостров. Чтобы как-то приободрить местных коллаборационистов, Кырымал сообщил им, что после ухода вермахта из Крыма все татары будут эвакуированы со всем их имуществом. Это свое заявление он согласовал только с Корнельсеном, совершенно «забыв» поставить в известность другую заинтересованную сторону — штаб командующего войсками вермахта в Крыму. Реакция на эту оплошность последовала незамедлительно. Генерал-полковник Йёнеке обратился к своему непосредственному начальнику — командующему группы армий «А», и попросил его довести до сведения подчиненных Розенберга следующую информацию: исключительно по всем вопросам эвакуации из Крыма необходимо обращаться только в военные инстанции. Запрашивать об этом следует, сохраняя, по возможности, строгую секретность, и не делать из этой чисто военной акции политического мероприятия. Далее Йёнеке выражал следующее пожелание: «Мы считаем неприемлемым, когда крымские татары действуют через своих представителей-эмигрантов без постановки в известность об этом командования армии. В дальнейшем, чтобы исключить подобное давление со стороны эмигрантов и местных татарских активистов, предлагаем Крымско-татарскому отделу или Министерству по делам оккупированных восточных областей информировать нас о результатах всех происходящих там совещаний».
Помимо общей неприязни руководства вермахта к политической активности крымских татар, эту позицию Йенеке также можно объяснить еще и тем, что в этот период он как раз вынашивал планы по созданию местного крымского правительства, речь о котором шла выше. Кырымал же своим обращением заранее перечеркивал весь эффект от этого мероприятия. В конце концов ему все-таки удалось договориться об эвакуации 60 активистов, 20 из которых сразу же пополнили ряды Крымско-татарского отдела министерства Розенберга. Еще около 2 тыс. (в основном бойцы добровольческих формирований) были вывезены морем после начала боев за полуостров.
План Йёнеке по созданию местного правительства, хоть и не осуществившийся, означал, по сути, предел для всех фантазий о каких-либо отдельных крымско-татарских политических формах. А могло ли быть в тех условиях иначе? Следует признать, что нет. И вина здесь не только членов комитета, которые не пользовались должным авторитетом среди своих соплеменников. Многие высшие немецкие чиновники в Берлине на словах были за предоставление татарам определенных политических льгот и привилегий. Однако на деле их представители на местах поступали с точностью до наоборот.
Из всего сказанного ясно, что ни вермахт, ни даже гражданская администрация в лице своего представителя Фрауэнфельда не были, мягко говоря, заинтересованы в создании крымско-татарской государственности. И тому, как мы убедились, была масса причин. Но и полицейские структуры, которые, казалось, были инициаторами создания мусульманских комитетов и уже даже в силу конкуренции с двумя предыдущими ветвями власти должны были действовать им наперекор, не очень спешили с легализацией политической деятельности крымских татар. Так, в одном из отчетов начальника полиции безопасности и СД «Таврии» (зима 1942 года) открытым текстом говорилось следующее: «Исходя из общего опыта, следует учитывать то, что скоро может возникнуть необходимость обратить внимание на татарский комитет в Симферополе, который, возможно, захочет использовать обстоятельство совместной борьбы в своих целях… Их централизаторские домогательства выражаются в делах, которые внешне и не видны. Например, они добиваются получения печати с надписью «Мусульманский комитет для Крыма ». Попыткам таких домогательств нужно уделять большое внимание, не допуская создания центрального руководства и проведения татарами такой политики».
Читать дальше
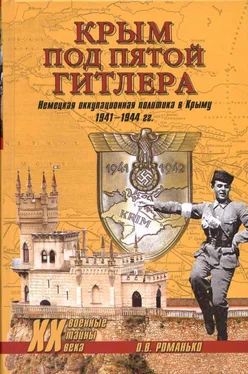
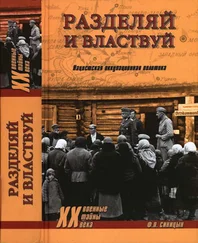
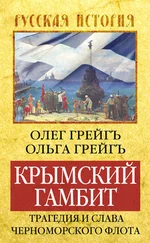
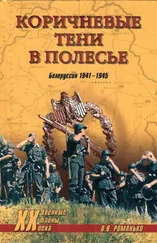
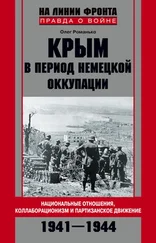
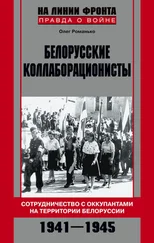

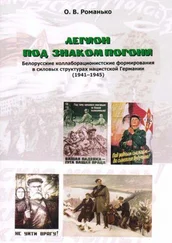

![Александр Даллин - Захваченные территории СССР под контролем нацистов [Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945] [litres]](/books/389522/aleksandr-dallin-zahvachennye-territorii-sssr-pod-k-thumb.webp)