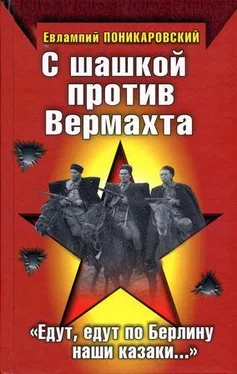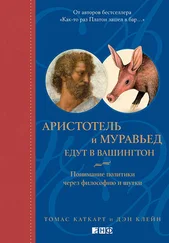Бывая часто в детском доме, навещая своих учеников, жена одновременно выяснила, что большинство детей здесь вывезено из блокадного Ленинграда, их мамы не могли доехать до Вологды и в дороге умерли от голода. Спасти этих детей, сберечь, дать им хоть чуточку материнского тепла — вот что велело сердце моей жены. Вот поэтому она и попросила гороно перевести ее из школы на работу в детский дом, считая, что она сейчас там нужнее, чем в школе.
Не сохранил я этих писем жены на фронт, но сохранил я их в сердце своем на всю жизнь. Этого забыть нельзя.
Наш отдых под Григорешти продолжался три недели. За это время мы получили пополнение в людях и лошадях, привели в порядок вооружение, в достаточном количестве обеспечили себя боеприпасами.
Пополнение в людях на этот раз пришло опытное, прошедшее школу в окопах, почти все они имели ранения в боях и награды. И совсем хорошо, что в полк вернулись из госпиталей многие из наших воинов. Вернуться из госпиталя в свой полк и подразделение считалось удачей, как возвращение в родную семью.
Здесь сменили мы обмундирование и обувь. Правда, не всем досталось новое, но и б/у (бывшее в употреблении) оказалось вполне приличным и добротным. Моему старшине снова пришлось помучиться, готовя персональное обмундирование и сапоги рослому Якову Синебоку.
Батарейцы привыкли к Якову, но ростом своим казак-заряжающий все-таки удивлял и тешил людей. На закрепленного за ним коняшку монгольской породы он, садясь в седло, не залезал, не запрыгивал, а просто зашагивал. В седле сидел смешно. Острые коленки его торчали выше седельной луки так же, как у взрослого человека они торчат, когда он садится на детский стульчик. С коня Синебок не слезал, не спрыгивал, а, поставив ноги на землю, чуть приподнимался на носках, и конь выходил из-под него, как из калитки ворот. Когда Синебок опускался в окоп-ячейку, то окоп этот оказывался ему не более как по пояс, в лучшем случае — по грудь. Но если кто оказывался в окопе Якова, то «тонул» в нем. Не только голову казака не видели, но даже и поднятых рук. Не окоп — колодец.
Война — это тяжкая, изнурительная работа. Я не раз наблюдал, даже любовался работой заряжающего Синебока в бою. Ее он делал без суеты, с некоторой медлительностью, но по-крестьянски основательно. И в бою, и после боя настроение казака всегда оставалось ровным, спокойным. Но вот здесь, в Григорешти, на отдыхе, он запечалился и затосковал. Мы часто выезжали на полевые тактические занятия. На одном из выездов я подошел к Синебоку. Взвод, собравшись на лесном закрайке, дымил самокрутками, а он сидел на бруствере возле миномета одинокий и задумчивый, отрешенный от всего.
— О чем думаешь, Яков? — опустился я рядом.
— Да так, ни о чем, — встрепенулся он и хотел вскочить.
— Сиди, сиди. О доме небось?
В эти весенние дни на многих казаков, особенно сельских, хуторских, накатывалось и бередило душу щемящее чувство тоски по дому. Все мысли их были там, где оставили они своих родных и близких, на родине.
— Из дома пишут, товарищ комбат, — неторопливо и задумчиво заговорил Яков, — что в колхозе начались полевые работы. Ни тракторов, ни коней нет. В плуги, в бороны бабы запрягают своих коровенок, а то и сами запрягаются. А деды из лукошка разбрасывают зерно. Как в глубокой древности…
Яков вздохнул и замолчал. Я тоже не сдержал вздоха и произнес: «Да, трудно там…»
Мне хотелось еще сказать, что кончится война и вновь поднимутся наши колхозы, тучными хлебами заколосятся поля и жизнь станет не хуже, а лучше, чем до войны. Но я ничего этого не сказал. Он, крестьянский сын, знал и чувствовал это не хуже меня.
— Дивлюсь я, товарищ комбат, — после некоторого молчания снова заговорил Яков, — очень дивлюсь, когда гляжу вот на эти румынские пашни. Ну ладно, маленькие лоскутки и межи — понятно. Живут несчастными единоличниками, сами по себе. Но почему на этих лоскутках не видно ни одного пахаря? Весна ж идет!
Верно, шла весна, она была в самом разгаре. С чистого голубого неба с редкими барашками облаков стреляли теплые лучи солнца. Земля прогревалась и нежилась. Над невспаханными и незасеянными полями волнами тек и качался теплый воздух. Он был наполнен запахами земли, леса, цветов. Леса уже оделись в молодую и нежную зелень. Зеленели подвязанные к проволоке рядки виноградных кустов. Зелень пробивалась и на пашнях. Но какая? Бурьян, кислица, чертополох, горчичник. Я как-то по-новому взглянул на Якова Синебока. У него болела душа не только за нашу землю, что на далекой родине, на Полтавщине, но и за эту, чужую — неужели она, земля-кормилица, в эту военную весну не примет и не взрастит хлебные и кукурузные зерна, неужели ей дадут зарасти чертополохом?
Читать дальше