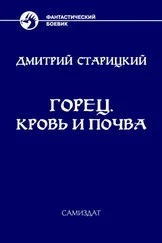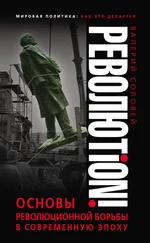Но это лишь констатация очевидного, за которой скрывается фундаментальная загадка: почему наша история была успешной, если все – природа, климат, внешнее окружение – работало против этого? Почему долговременный успех России, начавшийся с начала XVI в. (если не с конца XV в.), на исходе XX в. прекратился?
Поисками ответа на этот – центральный - вопрос нашей истории и в известном смысле нашего настоящего и должна бы в первую очередь заниматься отечественная историческая наука. Должна, но не занимается. Более того, этот вопрос даже не осознается отечественным социогуманитарным знанием.
Но как на него можно ответить? Наш успех в истории нельзя объяснить успешным стечением обстоятельств: обстоятельства чаще складывались неблагоприятно, чем удачно для русских. Не говорю уже, что в настоящее время внешние факторы развития более благоприятны, чем, скажем, четыреста лет тому назад, а страна переживает очевидный упадок с едва наметившейся тенденцией к восстановлению лишь тени ее былой мощи.
Везение? Повезти может раз, другой, но если «везет» на протяжении веков, то это уже закономерность или, как говорится в анекдоте, «тенденция, однако…» Ведь везением еще надо уметь воспользоваться, а тем более надо обладать незаурядным мужеством, чтобы восставать из провалов и поражений сильнее, чем прежде.
Попытки использовать для объяснения специфики русской истории уникальные констелляции обстоятельств (так называемый «многофакторный подход») неплохо работают применительно к отдельно взятым историческим феноменам, но не к протяженным и масштабным историческим процессам. Во-первых, из-за практической невозможности в рамках исследования учесть всю совокупность факторов и обстоятельств, участвовавших в процессе и повлиявших на него. В то же время отбор этих факторов, предполагающий их субординацию и иерархизацию, с неизбежностью ведет - и это, во-вторых, - к выделению главного, доминирующего фактора или отношения, с позиции которого и ведется исследование.
Влиятельная точка зрения, восходящая еще к «государственной школе» русской историографии, обнаруживает движущую силу и заодно специфику российской истории в самодовлеющем отечественном государстве. Однако это никакой не ответ, а новый вопрос. Почему ни в Литве, ни в Польше, ни среди татар, чувашей или «чуди белоглазой» подобное государство возникнуть не смогло, а появилось в той части Европы, которая на некоторых географических картах маркирована как «Русская равнина»? Почему русские успешно заимствовали у монголов, Золотой Орды эффективные методы и формы управления и организации пространства, а другим народам усвоение этого опыта оказалось не под силу?
Попутно нельзя не отметить ошибочность двух широко распространенных, влиятельных в общественном мнении и полярных историко-культурных стереотипов восприятия отношений государства и общества. Согласно одному из них, приписываемому ранним славянофилам, русские - народ «безгосударственный», не способный к государственному творчеству. Но почему же именно этому «безгосударственному» народу удалось создать самую эффективную (что бесспорно в исторической ретроспективе) государственную машину Северной Евразии?
На противоположном полюсе находится утверждение о самодовлеющем государстве, сформировавшем у русских покорность и склонность к безропотному подчинению. И это при том, что «Россия – едва ли не мировой чемпион по части народных восстаний, крестьянских войн и городских бунтов»[13]! Самое потрясающее, что миф о русской «забитости» и «пассивности» непостижимым образом уживается с не менее мощным мифом о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте.
Не дает внятного объяснения сущностному своеобразию отечественной истории и природно-климатическая концепция, популярность которой среди широкой публики создана работой Паршева «Почему Россия не Америка». Ее суть сводится к тому, что особые черты русской истории - самодовлеющий, авторитарный тип отечественной государственности, гипертрофированное участие государства в экономической деятельности, общинность (соборность, коллективизм) как устойчивый принцип социальной организации общества, особенности культуры и национальной психики – производное от сурового климата, природы и огромных пространств России.
Признавая важное, порою первостепенное влияние природы и климата на российскую историю, важно не перепутать местами причины и следствия. Не только русский, но и другие народы восточноевропейской равнины испытывали влияние сурового климата и питались от небогатых почв или, в формулировке Милова, «принадлежали к единому типу социумов с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта»[14]. Однако, несмотря на общие условия жизни, исторические результаты оказались радикально различными: одни ценою колоссальных жертв и усилий создали великое государство, в то время как другие народы - насельники северной Евразии - либо вообще не участвовали в истории, либо, что называется, сошли с дистанции.
Читать дальше


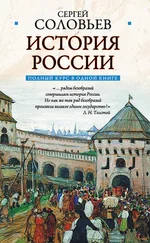
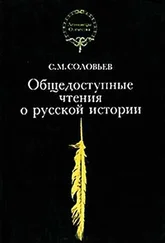

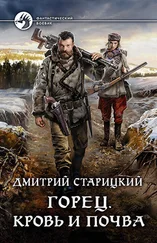
![Дмитрий Старицкий - Кровь и почва [СИ]](/books/419649/dmitrij-starickij-krov-i-pochva-si-thumb.webp)