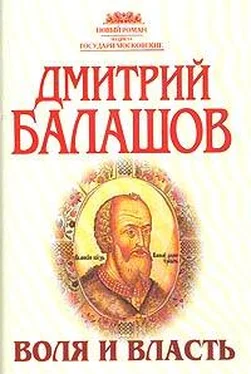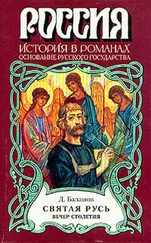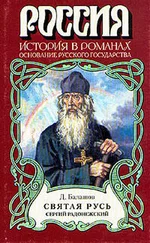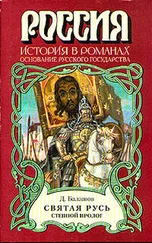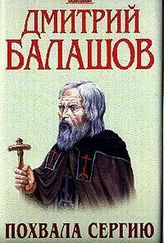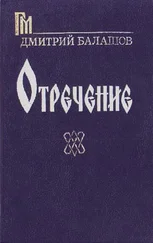Анфал сидел, свеся голову. Вышата Гусь был по-страшному прав: не те тут людины, не те молодцы! Кто пошел по ентой дорожке, пути уже нету назад! Или есть путь? Или только себя травим, говоря, что кроме резни да крови, да лихой гульбы и не заможем ничего иного? И песни поют про нас, и у баб сердце порой замирает сладко при виде разгульных молодцов в оружии, завалят ее где, в охотку и сама дает… А вот, поди ж ты! Хлеб ростить, скотину да детей водить уже и не заможем, как тот, мирный мужик. Так, чтобы день за днем, труды к трудам прилагать. Корчевать лес, пахать пожогу да посматривать на солнышко, будет ли ведро, падут ли дожди? И кто обиходит ее, ту Сибирь! Ратник ли с засапожником да кривою татарской саблей али мужик с сохой да рогатиной, от лесного зверя, медведя али сохатого? – Думал Анфал, уставя локти на столешню, уронив в ладони лохматую морду.
– Ты иди! – тихо сказал. – Не поминай лихом!
– И ты не поминай! – отмолвил Вышата Гусь, подымаясь. – Даст Бог, свидимси ещо!
Не дал Бог. Был убит Гусь на суступе, под Колмогорами. Дуром убит: шальная стрела попала в рот, пропорола глотку, так и погиб мужик, в корчах, в беспамятстве пролежав несколько дней. Зарыли его ватажники на высоком берегу Двины, поставили сосновый крест в полтора человеческих роста. А вот кто похоронен – не написали. Грамотного не нашлось.
Хлеб иногда сплавляли до Двины по рекам, прямо насыпью, на плотах. По Белому морю на плотах хлеб не повезешь, да и на самой Двине ударит порою такая поветерь – все плоты перетопит. Поэтому хлеб плавили по Емце, оттоль переволоком в Онегу, а там опять же можно переволоками до Водлы, по Водле до Пудожа, ну а там, Онежским озером (тоже звалось Онегушко страховитое!) по Свири, Ладогой и Волховом. Иной путь шел с Белого моря на Выг-озеро, и далее опять в Онегушко страховитое, только с севера, от Повенца. На всем этом пути и пихались, и волокли волоком, тащили по гатям через речные наволоки… Не один хлеб, и рыбу, и сало морского зверя, и рыбий зуб, дорогие северные меха, и серебро закамское, и заморские товары – сукна, соль, оружие везли зачастую этим путем. А потому в низовьях Двины крепче всего обустраивались новогородские бояре, и так сложилось, что прежде прочих – бояре Неревского конца. Своим считали Заволочье неревляна.
Сюда, к низовьям Двины, устремила в насадах от Устюга московско-устюжско-вятическая рать и прежде всего разгромила волость Борок, Ивановых детей Васильевых. И все было, как и в прежних набегах: лязг железа, заполошные крики женок, разбитые двери амбаров, и тот животный жадный страх – не набрать бы какой тяжелой да малоценной добычи! Катать ли эти вот бочки с ворванью? (Вверх по Двине, не вниз, тут и погребешь до кровавого поту, и попихаешься до дрожи и темени в глазах!) Или бросить? Набирать ли железной ковани, и какой? А хлеб, что делать с им? Уже и так охочие молодцы усыпали зерном всю улицу от вымола вверх, до церкви с выбитыми дверьми: искали церковное серебро, нашли только медную ковань, и тут же тарели, лжицы, дискосы [133]побросали в грязь у крыльца. Потрошили сундуки и укладки под женочий вой, волочили лопоть: выходные душегреи, кики, саженные речным жемчугом, суконную справу, крытую лунским сукном и фландрским бархатом, с рук рвали кольца, из ушей – серьги. Захлебывающуюся слезами толстую девку насилуют прямо на улице, целой ватагой, подталкивая от нетерпения очередных: «Ну, ты, Гридя, будя! На своей будешь по часу лежать!» Старуха, выставив острый подбородок, в голос костерит молодцов. На нее бросают взгляд, не до тебя, мол, бабушка, никому ты тут не нужна! Где-то лязгает сталь: остатние новогородцы, кто не утек, кладут головы в безнадежной сече у крыльца боярского терема. Уже волокут, закручивая руки за спину, вырывающегося русобородого молодца в разорванной у ворота, сияющей рудо-желтой рубахе, без пояса (дорогой с каменьями и в золоте пояс, сорвали с него станичники). Ор, пополох. Трубно мычит скотина, и как всегда, как при всяком грабеже, не столько берут, сколько – портят, а остатние жители будут потом собирать по дороге рассыпанное зерно, сушить, отвеевать пыль, собирать под опрокинутыми вешалами вяленую рыбу, отгоняя одичавших собак, разделывать на мясо туши убитых коров, и та же, понасиленная, но не забранная с собою девка будет, глотая слезы, бегать под злые окрики матери, собирать раскиданную утварь и испакощенное добро.
К Емецкому острогу подходили, обгоняя собственную славу. Тут еще никого не удалось собрать, защитников была горсть. Вятчане, осатанев, лезли на стены. Были пленены двое видных бояр – Юрий Иваныч с братом Самсоном. Бояр заковали в железа, емецкий погост предали разорению. Двинувшись ниже, разграбили и сожгли Колмогоры. Здесь, в низовьях широко разлившейся Двины, по островам бродили тучные стада скотины, выгоняемой на все короткое северное лето, дорогая рыба семга в нерест шла стеной против течения, вытесняя воду из берегов, в лобазах и лавках громоздились горы своего и привозного товара. Безопаснее был северный путь вдоль извилистых норвежских фьердов, где мочно было и укрыться от бурь и от свейских морских разбойников, много безопаснее людной Балтики, где шнеккеры, коггты и дракары скандинавов вовсе не давали безубыточного прохода торговым кораблям иных стран.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу