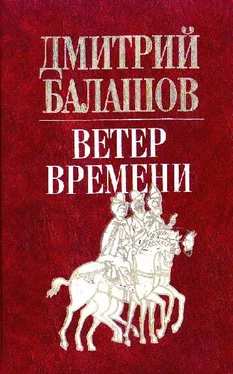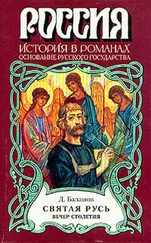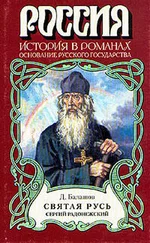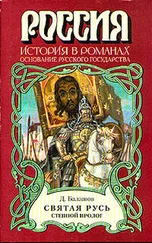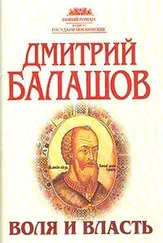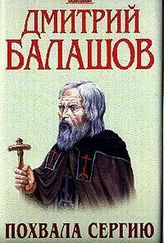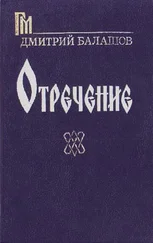До Мамая сумел прежде всех добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно в полсилы, играючи, охаживал он недоверчивых беков, всюду был вхож. К иному, думай еще: како и подступить? Ан, глядь, уж Кошка сидит у него в юрте, скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, толкует по-татарски с хозяином, а тот весь маслено расхмылил широкое круглое лицо – рад гостю.
Воротясь на русское подворье, Федор Кошка долго, отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребой кобылы, но главное вымолвил уже погодя в особном покое в присутствии Алексия и четверых великих бояр: Семена Михалыча, Феофана Бяконтова, Дмитрия Зерна и Тимофея Вельяминова.
– Мыслю, – скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал Федор, – надо дать Мамаю охолонуть чуток! Сарай ему и без нас не дадут, – примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексия. – Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной! Пущай сбавит спеси!
Бояре задумались, а Алексий, выслушав Кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаем, и верно, следовало погодить. Алексий уже давно понял, что в этом невеликом ростом татарине таит себя немалая сила, полный исход которой еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить!
Гоняя бояр, Алексий и себе не давал пощады. Трудился денно и нощно, почти не спал, усталость побеждая волею, и только когда уже все возможное, кажется, было совершено, почуял то смертное падение сил, которое, бывало, ощущал крестный, ворочаясь из Орды.
С суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константиныч, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомою досель смертною усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит. И даже – обманывает ли его вовсе? Или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор?
Дмитрий Константиныч в простоте своей ожидал, что Алексий и московиты будут спорить о владимирском столе перед ханом Хидырем, и на всякий случай всячески задарил заранее владыку золотоордынского престола, а также его старшего сына Темир-Ходжу. Но Алексий спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынский выход. Неволею приходило принять днешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя.
Вечером измученный Алексий оставался один на один со Станятою. (Порою мнилось: они вновь сидят вдвоем в смрадной яме, из коей нет исхода наверх, к свободе и воздуху.) Станята задумчиво толковал о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгочием, называвшим арабского мудреца Ибн-Халдуна… Далекая мудрость Востока, перевидавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, мудрость, прошедшая через многие уста и многажды поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей.
Оба понимали уже, что, действительно, есть юность и старость народов, есть подъем и упадок духа и что старания самого сильного – ничто перед тем оскудением сил, которое охватывает уставшие жить народы. Оба видели Кантакузина, сломленного бременем невозможной задачи: спасти гибнущую Византию, которую можно было оберечь от турок, латинян, сербов и болгар, но только не от нее самой.
– Но как определить, как понять, начало или конец то, что происходит окрест? – вопрошает Станята.
– По людям, Леонтий! – задумчиво и устало отвечает Алексий, пригорбившись в ветхом креслице. – У людей начальных, первых времен – преизбыток энергии, и направлена она к деянию, к творчеству и к объединению языка своего. У людей заката, у старых народов, – нет уже сил противустать разрушительному ходу времени, и энергия их узка, направлена на свое, суедневное. И соплеменники, ближние для них почасту главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль!
– Как Апокавк?
– Да, ежели хощешь, как Апокавк! Такие есть и у нас. Вот, Леонтий, почто я и закрыл глаза на гибель Алексея Хвоста! Он мог думать токмо о своей собине, а Василий Вельяминов – о земле народа своего. Василий не более прав в этом споре, чем Алексей Хвост, скорее – более неправ, но для земли русичей покамест не нужны Апокавки! Когда обчее дело выше личного, когда любовь к Господу своему истинно паче любви к самому себе, тогда молод народ и люди его! Когда же человек уже не видит обчего, не может понять, что есть родина, ибо родина для него лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил, когда власть претворяется в похоть власти, а труд – в стяжание богатств и довольство свое видит смертный не в том, чтобы созидать и творить, обрабатывать пашню, строить, переписывать книги, при этом – принять и накормить гостя, помочь тружающему, обогреть и ободрить сирого и нагого, приветить родича, помочь земле и языку своему, а в величании пред прочими, в спеси и надмевании над меньшими себя, в злой радости при виде несчастливого, в скупости, лихоимстве, скаредности и трусости пред ликом общей беды – тогда это конец, это старость народа. Тогда рушат царства и языки уходят в ничто…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу