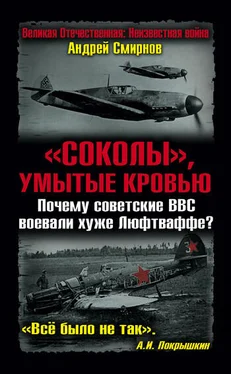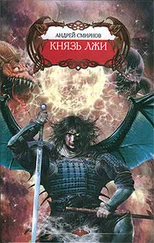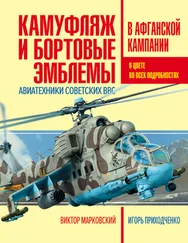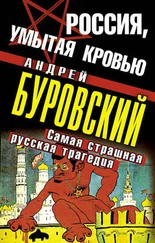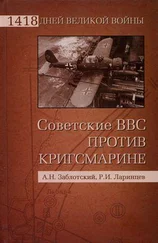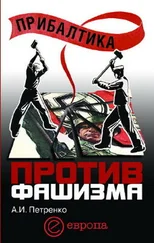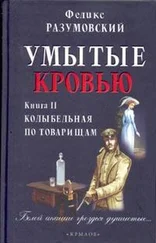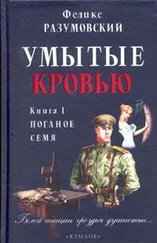А зачастую – по крайней мере, до весны 1943 г. – командиры штурмовой авиации вообще не считали нужным планировать (пусть даже по шаблону!) боевой вылет, детально прорабатывать с каждым экипажем его конкретные действия на маршруте, при атаке цели и возвращении! В 1941 г. отказ от проведения предполетной подготовки – в ходе которой летчики должны были в деталях уяснить маршрут со всеми его ориентирами, направление захода на цель и выхода из атаки, способ атаки цели, последовательность применения различных видов оружия, варианты действий при встрече с зенитным огнем и истребителями противника, порядок ухода от цели и т.п. – в штурмовых полках вообще был нормой. В результате летчики часто срывали выполнение боевого задания уже из-за одной только потери ориентировки... Еще во время Харьковского сражения в мае 1942 г. в штурмовых авиачастях ВВС Юго-Западного фронта задачи экипажам командиры ставили «нечетко, неконкретно»; предполетную подготовку опять не организовывали. Примерно так же – без детального изучения «поставленной задачи, маршрута следования, характера цели и тактической обстановки» – выпускали на боевые задания и экипажи «горбатых» 8-й воздушной армии Сталинградского фронта во время советского контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942-го – феврале 1943-го 116. Судя по воспоминаниям А.Н.Ефимова, примерно так же еще в конце 1942-го – начале 1943-го обстояли дела и в 198-м штурмовом авиаполку 233-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии Западного фронта. Например, перед первым боевым вылетом Ефимова (30 ноября 1942 г.) ведущий четверки лейтенант А.Н.Васильев уточнил лишь маршрут, порядок взлета и построения группы; вопросы же распределения сил группы при ударе по цели, порядка применения различных видов оружия и выхода из атаки остались невыясненными... Когда же назначенный командиром звена Ефимов стал тщательно планировать перед вылетом действия своей группы над целью, это было воспринято в полку как нечто странное. «[...] Над нашим звеном, – вспоминает Ефимов, – посмеивались [...] стали называть академиками» – и только потом, «постепенно», «такую заблаговременную подготовку к вылетам ввели и в других звеньях и эскадрильях»... 117
Правда, В.Швабедиссен в разделе своей работы, посвященном 1942—1943 гг., приводит утверждения немецких экспертов-фронтовиков о том, что ударам Ил-2 предшествовала «хорошая разведка целей», что экипажи советских штурмовиков «получали хороший инструктаж», а удары наносились «в разное время, с разных высот и направлений и разными построениями групп самолетов» 118. Но, по-видимому, эти оценки относятся только к концу 1943-го и мы в очередной раз сталкиваемся с плохой отредактированностью труда Швабедиссена. «Со временем, – читаем мы в разделе, посвященном 1944—1945 гг., – советская штурмовая авиация добилась прогресса в использовании различных факторов для умелого подхода к цели и ее обнаружения» 119. Выходит, до 44-го Ил-2 все-таки действовали здесь не совсем умело?
Только с середины 1943 г., подтверждает наше предположение О.В.Растренин, «начинается коренной перелом в сознании командного состава всех уровней», утверждение советских командиров в той мысли, «что воевать надо правильно, войсками нужно управлять и через это реально влиять на исход боя, что не только летчики должны хорошо стрелять и бомбить, но и штабы должны хорошо организовывать и обеспечивать их действия» 120. Квалификацию штабистов стали повышать целенаправленно, настойчиво и с опорой на боевой опыт (изучение которого, в свою очередь, тоже резко усилили).
Но если с планированием и боевым обеспечением ударов советской штурмовой авиации на поле боя дело постепенно наладилось, то о действиях Ил-2 против объектов, расположенных в немецком ближнем тылу – аэродромов, путей сообщения, резервов на марше и т.п., – это сказать трудно. Еще в 1944—1945 гг., отмечает В.Швабедиссен, «очевидные недостатки в планировании этих операций существенно снижали их результативность»... 121
Долгое время советское авиационное командование не умело и организовать эффективное взаимодействие «горбатых» с наземными войсками – для непосредственной авиационной поддержки которым, собственно, и предназначались штурмовики. Главным камнем преткновения здесь была организация связи между общевойсковыми и авиационными штабами – не позволявшая вовремя удовлетворять заявки общевойсковиков на поддержку с воздуха. А главными пороками этой организации долгое время оставались практически полное отсутствие радиосвязи (пренебрежение которой было давней болезнью Красной Армии) и отсутствие прямой связи между штабом, скажем, стрелковой дивизии и штабом (или командным пунктом) дивизии авиационной – из-за чего заявка на авиаудар направлялась по инстанции – сначала в штаб армии, оттуда в штаб фронта, затем в штаб ВВС фронта или (со второй половины 1942 г. – воздушной армии) и уже оттуда – в штаб или на КП авиадивизии. Прохождение заявки по инстанциям, например, в 1941 году составляло 8—12 часов, и «заявки выполнялись тогда, когда нужды в авиационном ударе уже не было» 122. Точно так же было еще и в июле 1943-го, в начале Курской битвы...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу