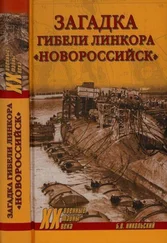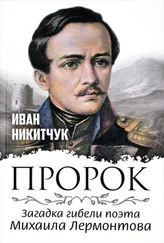Возможно, экипаж не успел даже спустить спасательные шлюпки. Да и остались ли они после зимовки с недостатком топлива?
С февраля 1915 года воды, омывающие Англию, объявлены Германией зоной морской блокады… Пресса тех месяцев пестрит сообщениями о погибших судах. Только со 2 по 9 июля потоплено девять пароходов и одиннадцать рыбачьих судов, с 9 по 16 июля — один пароход и пять рыбачьих судов. С 3 по 16 июля только одна из германских подводных лодок потопила три русских судна — четырехмачтовый барк и два парохода. Пожалуй, август принес самый мрачный „урожай“ — погибло сто одно судно. Командир подводной лодки „У-38“ капитан-лейтенант Валентинер поставил своеобразный „рекорд“ — за пять дней пустил ко дну двадцать два парохода и 3 парусника.
Война шла не на жизнь, а на смерть. Союзники отдали секретный приказ: пользуясь нейтральным флагом, уничтожать подлодки. Появились суда-ловушки. Эти суда имели вид обычных торговых судов и замаскированные пушки. Суда-ловушки должны были заманивать подлодки на дистанцию прямого выстрела, внезапно открывать огонь и уничтожать.
Немцы, в свою очередь, поломав все каноны морской призовой войны, зачастую не утруждали себя опознанием „национальности“ судна. Альтернативным был лишь вопрос: расходовать торпеду, если есть подозрение, что судно несет артиллерийское вооружение или является судном-ловушкой, либо всплывать и разделываться с жертвой пушечными выстрелами или подрывными патронами. Для экипажей обреченных судов места в тесных помещениях подлодок, как правило, не оказывалось. Зона наибольшей плотности погибших судов находилась около Оркнейских островов и к юго-востоку от Фарерских островов и в северной части Северного моря, то есть как раз в зоне возможного плавания „Св. Анны“ после освобождения изо льдов. А „Св. Анна“ даже не ведала, что в мире второй год идет кровопролитная война».
Находя версию Д. Алексеева и П. Новокшонова интересной и возможной, Валентин Иванович Аккуратов, комментировавший их публикацию, отмечал: «Однако в этой версии есть одно слабое звено. К концу своего многолетнего дрейфа „Св. Анна“ не имела ни достаточного запаса продовольствия, ни топлива, и, конечно, самым трезвым и реальным решением командира судна был заход в ближайший порт для пополнения всем необходимым и ремонта потрепанного корабля, ибо впереди лежал путь по бурным осенним морям. Ближе всего были Ян Майен и Исландия. Но сюда „Св. Анна“ не заходила».
Тем не менее целиком отказываться от этой версии нельзя. Невозможно учесть все жертвы морской войны. «Наиболее достоверными могли быть рапорты командиров подводных лодок, — писали Д. Алексеев и П. Новокшонов. — Но часть этих рапортов отправлена на дно вместе с лодками, часть же скрылась в секретных военно-морских архивах.
И кто знает, не хранится ли где-нибудь до сих пор сообщение педантичного немецкого офицера о том, что в Северном море, в точке, обозначенной такими-то координатами, потопили шхуну под русским флагом, вооруженную двумя пушками (гарпунными, которые на расстоянии легко можно спутать с боевыми)».
А не может быть так, что «Св. Анна» до сих пор не выбралась из ледяного плена?
Да, существует общий западный дрейф к берегам Гренландии, но, может, существуют какие-то своеобразные «карманы» около той же Земли Франца-Иосифа или севернее Шпицбергена, где происходит задержка или круговое движение льдов в результате местных закономерностей? Или «Св. Анна» ушла так далеко к северу, что до поры до времени все еще где-то дрейфует в приполюсной части? Ведь находился — пятьдесят семь лет! — в ледовом плену корабль экспедиции Мак-Клюра, который в свою очередь искал пропавшую экспедицию Франклина. Только через пятьдесят семь лет он — благополучно! — вышел на чистую воду. Так, может, нас еще ждет встреча со «Св. Анной»?
Эта мысль неожиданно родилась у меня глубокой ночью в полузаброшенной таежной избе.
Кое-как дождался я утра, вспомнив к тому же, что в письме к заведующей краеведческим музеем уфимской школы № 11 Елене Ивановне Никуличевой, помогавшей мне в поиске, Валентин Иванович Аккуратов писал, что в 1938 году около Земли Франца-Иосифа он якобы видел вмерзший во льды корабль, по очертаниям очень похожий на «Св. Анну», когда они с Ильей Павловичем Мазуруком после высадки папанинцев на Северном полюсе были оставлены на острове Рудольфа для их страховки.
Первым же поездом я вернулся в город и по междугородному телефону-автомату позвонил Валентину Ивановичу.
Читать дальше
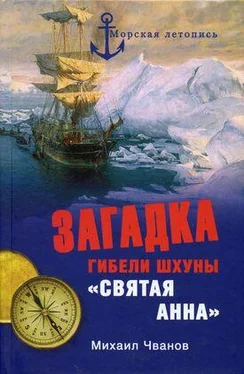

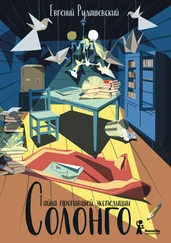
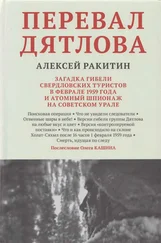
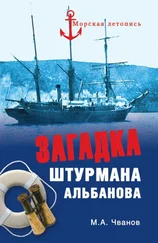
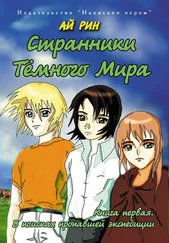
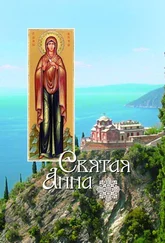
![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)