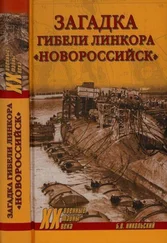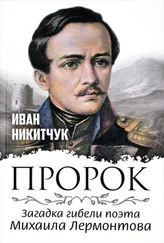1
Сборы в санную экспедицию
К своему путешествию я начал готовиться 10(23) января 1914 года. Работы было много. Надо было сделать семь каяков [4] Легкая кожаная лодка на каркасе из дерева или кости с обтянутым кожей верхом, распространенная в прошлом у народностей Севера. Приводилась в движение и управлялась одним двулопастным веслом.
, семь нарт, сшить или исправить одежду, сапоги, готовить провизию и пр. и пр. Неимение с собой необходимого материала и даже некоторых инструментов сильно осложняло дело. Для каяков и нарт приходилось выбирать лес далеко не доброкачественный, пилить его, делать медные заклепки и даже инструменты. Кроме заклепок, все соединения каяков скреплялись бензелями [5] Бензель — вид морского узла.
и весь остов оплетался сеткой из тонкой, но крепкой бечевки. Когда остов был готов, его обшивали парусиной, на что пошли запасные паруса. Все эти работы производились в трюме на холоде до 30°R [6] До -37,5 °C.
при свете жировых светилен, от которых было больше копоти, чем света. В большинстве случаев работать приходилось, несмотря на страшный холод, голыми руками, так как сама работа была мелкая, кропотливая, руки поминутно стыли, и мы их отогревали над «коптилками». В особенности мучительна на холоду была клепка остовов и обшивание их парусиной, когда холодная парусная игла, как раскаленное железо, оставляла волдыри на кончиках пальцев. Даже сами парусные иглы приходилось делать самим, и в конце концов в этой отрасли мы достигли почти искусства. Игла получалась крепкая, чистая, красивая, которую трудно было даже отличить от покупной. Мало-помалу трюм наш стал наполняться остовами каяков и нартами; оживление там царило с раннего утра и до поздней ночи, все были настроены бодро, шутили и пели песни. Каждый каяк первоначально рассчитывался на двух человек, не считая поклажи. Каждый давал своему каяку название: тут были «Чайка», «Нырок», «Пунога», «Чирок», «Глупыш» и пр. Некоторое затруднение встретилось при окраске, так как в трюме на холоде красить было нельзя. Тогда был снят световой люк на юте, и через него все каяки по очереди были опущены в нижнюю кухню, где и были окрашены. С неделю в кухне можно было ходить только сильно согнувшись, почти на четвереньках. В марте месяце у носа судна образовалась во льду трещина, которая скоро расширилась до двух сажен. В этой полынье была произведена проба всех каяков, оказавшаяся очень удовлетворительной. Каяки были поместительны и устойчивы. Конечно, материал для каяков был далеко не удовлетворительный и не такой, какой был бы желателен, а какой имелся налицо. Для продольных реек каяков употребляли ободранную обшивку потолка из палубной кают-компании. Это была старая, пересохшая ель, от которой, конечно, нельзя было ожидать особенной гибкости и упругости. На «шпангоуты» каяков большею частью пошли обручи с бочек, и, только часть их была сделана из снятых с мачт и распиленных вдоль деревянных ракс [7] Раксы — железные или деревянные скобы, удерживающие паруса, скользящие по мачте при их подъеме.
. Поэтому-то и приходилось остовы каяков оплетать сеткой, чтобы придать им большую прочность. С материалом для нарт дело было еще хуже. На полозья употребили столешницу от буфетного стола. Столешница эта была хотя и березовая, но тоже достаточно старая и хрупкая. Многие полозья из этой столешницы полопались еще при загибании, почему пришлось часть полозьев сделать из ясеневых весел. При выборе материала для каяков и нарт несколько раз у меня были столкновения с Георгием Львовичем, столкновения дикие, о которых мне и сейчас неприятно вспоминать. Почему-то он был уверен, что путь нам предстоит небольшой, несерьезный. Не раз он говорил мне, что пройдет не более пяти-шести дней нашего пути, как мы уже будем в виду берегов Земли Франца-Иосифа.
Наши заботы о прочности нарт и каяков он считал чрезмерными. Он даже долго отстаивал свою мысль, что для предстоящего пути не следует нам делать легких парусиновых каяков, а надо взять с собой обыкновенную промысловую тяжелую шлюпку. В доказательство он ссылался на экспедицию лейтенанта Де Лонга [8] Американская полярная экспедиция Де Лонга на судне «Жаннетта» с 1879 года совершала преднамеренный дрейф в Северном Ледовитом океане с целью таким способом достичь Северного полюса. В июне 1881 года судно было раздавлено льдами севернее Новосибирских островов, до которых ее команда с помощью собак тащила по льду три судовые шлюпки, на них экипажу удалось добраться до дельты Лены, где большинство спасшихся погибли от голода.
. Не скажу, чтобы и я смотрел на свой предстоящий поход так оптимистически. Правда, я не ожидал тогда такого тяжелого пути, какой был на самом деле, но около месяца пути я ожидал. Путь с тяжелой шлюпкой, поставленной на нарты, в которую к тому же придется наложить всякого груза около 60 пудов, я считал невозможным. Мы тогда не были даже уверены в своем месте, где мы находимся и где мы должны встретить землю. На судне у нас не было карты Земли Франца-Иосифа. Для нанесения своего дрейфа мы пользовались самодельной (географической) сеткой, на которую я нанес увеличенную карточку этой земли, приложенную к описанию путешествия Нансена [9] В. И. Альбанов имеет в виду книгу Ф. Нансена «Среди льдов и во мраке полярной ночи», в которой описывается трехгодичный дрейф «Фрама» и поход Нансена с Иогансеном с дрейфующего корабля к Земле Франца-Иосифа.
. Про эту предварительную карточку сам Нансен говорит, что не придает ей серьезного значения, а помещает ее только для того, чтобы дать понятие об архипелаге Земли Франца-Иосифа. Мыс Флигели на нашей карте находился на широте 82°12′. К северу от этого мыса у нас была нанесена большая Земля Петермана, а на северо-запад — Земля короля Оскара [10] Существование Земель Петермана и Оскара предполагалось севернее Земли Франца-Иосифа. Автором этой гипотезы был Юлиус Пайер, один из руководителей австрийской полярной экспедиции на судне «Тегеттгоф», которая в 1873 году случайно открыла архипелаг, названный Пайером Землей Франца-Иосифа. Тремя годами раньше выдающийся русский географ П. А. Кропоткин предсказал эту землю теоретически, на основании анализа дрейфа льдов в Северном Ледовитом океане. Дрейф «Св. Анны» и поход отряда В. И. Альбанова доказали отсутствие этих «земель», и на последующие карты Арктики они уже не наносились.
(см. прилагаемую карту). Каково же было наше недоумение, когда астрономические определения марта и первых чисел апреля давали наши места как раз на этих сушах и в то же время только бесконечные ледяные поля по-старому окружали нас. Ничто не указывало на присутствие близкой земли, даже медведи, которых за прошлый год мы убили 47 штук, в этом году не показывались. Не видно было обычных в прошлом году полыней и «разводьев», нигде не видно было и так называемого «водяного неба» [11] Открытая вода среди льдов дает темное или синеватое отражение в воздухе, отличающееся от белесоватого ледяного отсвечивания. Такое отражение чистой воды в воздухе часто наблюдается среди льдов за пределами видимости самой открытой воды.
, указывающего на присутствие этих полыней за горизонтом. Горизонт был ясный, лед медленно, спокойно совершал свой путь, и все предвещало нам долгую трудную дорогу по торошенному льду, с глубоким снегом.
Читать дальше
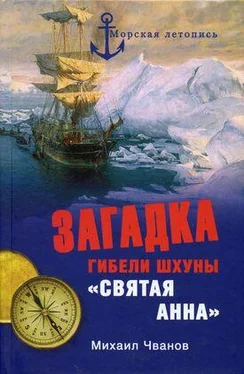

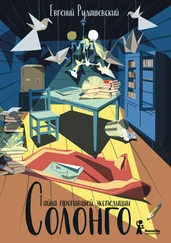
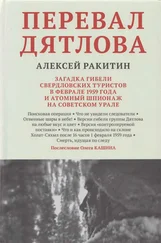
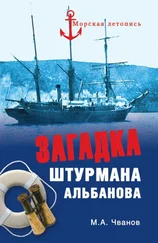
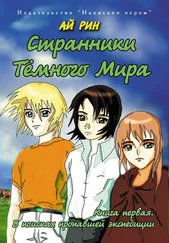
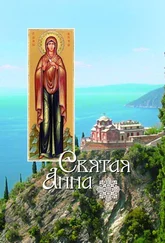
![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)