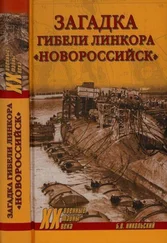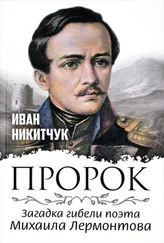В Штральзунд меня занесло без всяких дел. Просто в один из воскресных октябрьских дней 1988 года мои берлинские друзья Петра и Манфред, у которых я гостил, решили показать мне старый ганзейский город-порт. Мы сели в скорый поезд, бегущий на северо-восток Германии, и через три часа, как до Твери, докатили до Штральзунда.
Островерхий город с взъерошенной временем красной чешуей черепиц весьма походил на Ригу, с той разницей, что вместо Даугавы Штральзунд пересекала неширокая протока между материком и островом Рюген. Лютеранские петухи на шпицах смотрели в море. От остывшей Балтики веяло промозглой осенью, и мы отправились на поиски подходящего кабачка. Мы обогнули монастырь Святого Духа с госпиталем для престарелых моряков и наконец нашли то, что искали: два фонаря — желтый и красный — зазывно светились в сумерках перед входом в бир-штубе — пивной погребок — „У Ханзы“.
Рослый немолодой буфетчик в кольчужном фартучке на пивном брюшке и наколотой на предплечье розой ветров кивнул нам на столик под деревянным рулевым колесом, украшавшим стену зала. К ступице штурвала была прикреплена русская икона, как мне сначала показалось, — Божией Матери. Однако присмотревшись, я разобрал церковнославянскую вязь: „Святая Анна Кашинская“. Штурвал этот маячил у меня прямо перед глазами. На медной закладке проступали затертые латинские литеры „…andor…“.
Это все, что осталось от названия судна, которое когда-то управлялось этим штурвалом. „Андора“? — гадал я. — „Пандора“?
По моей просьбе Петра спросила у буфетчика, что за имя начертано на штурвале. Тот пожал плечами и сказал, что эту реликвию добыл для бара его отец, бывший рыбак. Он вызвался позвонить ему и набрал номер. После недолгой беседы пересказал нам, что услышал.
После разгрома Гитлера Германия страшно голодала, и администрация союзных держав разрешила немецким рыбакам выходить в Балтийское и Северное моря. Но никому не хотелось вытягивать своими тралами морские мины, которыми оба моря были начинены, как хороший суп клецками, и все сейнеры забирались дальше на север. Отец ходил механиком на небольшом траулере. В эту пору по морям носило много брошенных и полузатопленных посудин. Особенно часто встречались они в Северном море, куда течениями выносило остатки разгромленных арктических конвоев.
Однажды, это было осенью 1946 года, отцовский траулер чуть не врезался в густом тумане в брошенную парусную шхуну.
— Чей это был парусник?
— Отец не знает. На нем не было ни флага, ни имени на борту. Вот и вся история.
Я покидал Штральзунд, даже не подозревая, что этот город таит ключ к тайне „Св. Анны“. Точнее, половину ключа. Вторая его часть приоткрылась именно там, откуда шхуна лейтенанта Брусилова вышла в свой последний, хочется верить, все еще неоконченный рейс — в Екатерининской гавани, на гранитных берегах которой стоит город Полярный. Некогда рыбацкий поселок на выходе из Кольского залива превратился за сто лет своего существования в большой, по полярным меркам, город, в крупную военно-морскую базу Северного флота. Вот в этом, ныне забытом Богом и Минфином граде выходит на невесть какие средства — на энтузиазме любителей истории края — провинциальный журнал „Екатерининская гавань“. Один из номеров подарил мне главный редактор этого уникального издания Игорь Опимах. Открываю и первым делом читаю статью на „местные темы“ — „Экспедиция Брусилова“. А в ней такие строки:
„Шхуна вышла из Петербурга 10 августа (28 июля) 1912 года… Когда „Св. Анна“ выходила в Финский залив, произошел такой эпизод. Мимо прошла яхта „Стрела“, на борту которой находился будущий президент Франции Пуанкаре.
— Как прежде называлась яхта? — заинтересовался он.
— „Пандора“.
— Да, — задумчиво сказал будущий президент, — Пандора — богиня, которая неосторожно открыла сундучок с несчастьями.
И эта слова оказалась пророческими“.
Стоп! Пандора! „Св. Анна“ раньше называлась „Пандора“! Нанести новое имя на борта — полдела. Но на штурвале и на некоторых деталях было выбито первородное имя „Pandora“! На медной накладке рулевого колеса в штральзундском кабачке были вытравлены литеры „…andor…“. А это ведь вполне могли быть остатки надписи „Пандора“, которую суеверные моряки пытались забить. Икону Святой Анны — какую же еще могли им вручить перед походом?! Конечно, это могла быть и икона Николая Морского, покровителя моряков, и Христа Спасителя. Но к штурвалу „…andor“ все-таки была прикреплена икона Святой Анны. Два совпадения… По двум точкам штурманы берут пеленг. Можно ли это маленькое открытие считать пеленгом на пропавшую шхуну? Что, если именно брусиловскую „Аннушку“ встретили в Северном море немецкие рыбаки?..»
Читать дальше
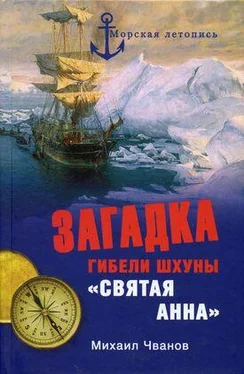

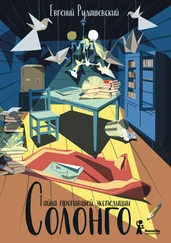
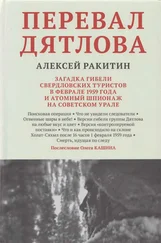
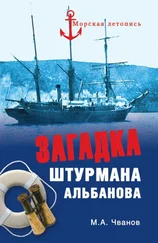
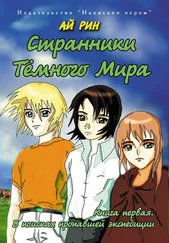
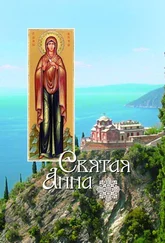
![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов - Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/401767/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push-thumb.webp)