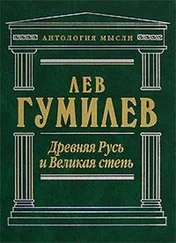Кроме того, им были пожалованы земли, в частности, — деревня Костино, что и поныне под Москвой, бывшая вотчина Костиных, которых в русской истории — не менее трёхсот имён. Ближайший предок — дед Г.П. Костина по отцовской линии — крупный латифундист и изобретатель. Живёт Генрих Петрович Костин во Владивостоке, многие годы занимаясь подводной археологией. Он 17-кратный чемпион СССР по подводному спорту, тренер подводников-спортсменов.
Наш разговор на палубе одного из плавучих пирсов мыса Чуркин в бухте Золотой Рог начался с его замечания о том, что мы порой плохо читаем «историков» (видимо, тоже накипело на душе!), своими «замыленными» глазами не замечая их вранья. Генрих Петрович протянул мне книгу дальневосточного краеведа и историка Амира Александровича Хисамутдинова «Владивостока Этюды к истории старого города» (Владивосток. ДВГУ, 1992).
Читаю аннотацию: «…автор показывает историю Владивостока до 1917 г. с целью — заставить читателя задуматься об упущенных возможностях в беспамятном суеславии (?! — О.Г .)». То есть: что вы там, русские черви, несуразное лопочете о своих героических усилиях в деле присоединения к России и освоения этого края? Дескать, ничего такого не было.
На первых же страницах книги нельзя не заметить странную (а правильнее — преступную!) незавершённость изложения принципиально важной информации.
Не многие знают, что приоритет в открытии бухты Золотой Рог принадлежит не Амурской экспедиции капитан-лейтенанта Г.И. Невельского и графа Н.Н. Муравьёва-Амурского, а англичанам. В этих местах во время Крымской войны они искали фрегат «Паллада», на котором побывал в Японии с важной миссией генерал-адъютант Е.В. Путятин и сопровождавший его И.А. Гончаров — автор «Об-ломова».
Из книги Хисамутдинова:
«Два английских фрегата «Винчестер» и «Барракуда» держали курс на юг вдоль приморского берега. Утром 11 августа 1855 года адмирал М. Сеймур, державший флаг на «Винчестере», проснулся в хорошем настроении. Ему приснилось, что он наконец-то встретил эту неуловимую «Палладу»… Сеймур подошёл к капитану Мею, который внимательно разглядывал приближающийся берег и давал отрывистые команды.
— Не кажется ли вам, капитан, — окликнул он Мея, — что этому прелестному острову очень подошло бы Ваше имя?
— Благодарю, адмирал, — ответил тот, — но мне думается, что другое имя было бы предпочтительнее.
— Какое же?
— Предлагаю назвать его Терминейшн [44] Конечный пункт, — англ .
и на этом закончить погоню. Сколько можно преследовать призраков? А моё имя можно дать любой бухте — вон их сколько, одна лучше другой.
Признаюсь, этот диалог придуман от начала до конца. Но он мог произойти и в действительности, ведь остались же на карте после этого плавания англичан и остров Терминейшн (Русский), и мыс Сэнди (Песчаный), и порт Мей (бухта Золотой Рог)»…Только через два года, летом 1857 года, первый русский корабль вошёл в бухту Золотой Рог» (стр. 7–9).
Местность была описана, занесена на карту и даже зарисована. В силу неукоснительного соблюдения права первооткрывателя, Приморье должно было стать английской колонией, чего не произошло. Почему? Потому что русским дипломатам без особого труда удалось доказать приоритет России на эти берега. Каким образом? Вот об этом-то Хисамутдинов и К° «умненько» помалкивают.
Англичане не стали отрицать того, что, высадившись на берег, они нашли берега бухты Мей заселёнными. Кем? Ну не китайцами же. Иначе англичане стали бы слушать не русских дипломатов, а китайских.
Полагаю, что англичанам была представлена карта русского промышленника С.К. Ремизова, составленная им в 1701 г., на которой Приморье было обозначено средствами русского, а не какого-то другого языка, как Никанское царство. Вне всякого сомнения, оно не могло быть ни Китаем, ни какой-то частью его.
Потому что «…государство Никанское паче китайского государства зело людьми и богатством, златом и серебром и камением драгим, шёлком, камками и всякими алканы, благовонными травами и шафраном изобилствует; мужской и женский пол пред китайскими людми зело чист (т. е. населяли его люди белой расы. — О.Г .); и ныне он, Никанский царь, с Китайским царём воюются, а Китайский царь через своё Китайское государство в Никанское царство русских людей с товарами для торгу не пропущает» [45] Цит. Хисамутдинов без ссылки на первоисточник, стр. 6.
. Вот что говорится о качестве русских карт:
«Выдающимся достижением русской самобытной национальной картографии явились работы тобольского уроженца Семёна Ремизова «Чертёж всей Сибири» (1667) и «Чертёжная карта Сибири» (1701) — первый русский географич. атлас… Русские карты были свободны от элементов мистики и фантазии, обычных для многих западноевропейских карт того времени. Влияние западноевропейских карт на русских картографов было ничтожно. Напротив, успехи западноевропейских картографов в изображении Вост. Европы и Сев. Азии зависели от того, насколько им удавалось привлекать русские источники» [46] БСЭ, 1953.
.
Читать дальше