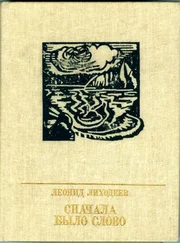"Боже! Ириночка! Неужели я ее снова увижу! А она зайдет после спектакля? Ой, но я уже боюсь, а вдруг она меня не узнает!" - говорила великая Фаина Мише Львову.
После спектакля мы зашли к обессилевшей Фаине Георгиевне. Они с матерью обнялись и долго произносили какие-то междометия. Две очень-очень старых женщины, которых связывали почти 50 лет знакомства, а внутри этих 50 лет было время близких им людей, которых теперь уже нет. И среди этих людей был главный - мамин муж по жизни и муж Раневской по фильму "Золушка" Вася Меркурьев.
Тосковала мама по папе ужасно! Все время спрашивала: "А вот если меня кремируют, а потом урну в папину могилку положат, мы с ним там встретимся? Или если сожгут, то не встретимся?" Этот вопрос ужасно ее мучил.
Кажется, Раневская сказала: "Страшна не старость, страшно то, что душа остается молодой". Это очень подходит к определению маминого состояния в последние годы жизни. Превосходно, без погрешностей работающая голова ни тени склероза, с отличной реакцией, с чувством юмора; и, наряду с этим физическая немощь. Нет, тренированное ее тело не отказывало: ноги не просто держали, они готовы были бегать, прыгать; руки были сильными; наклониться ничего не стоит! Но сердце...
Мамина энергия продолжала воплощаться в "домашней передислокации". Она постоянно передвигала мебель - все время "переезжала" по комнатам. В этой огромной квартире сначала жило так много народу, что его никто и не считал, потом "птенцы" стали постепенно разлетаться. Остались трое: мама, папа и Катя. И вот теперь мама осталась с Катей. Друзей становилось все меньше - иных уж нет, а те...
В последний раз я говорил с мамой по телефону в 17 ча сов 21 ноября 1981 года. Я сказал ей, что на днях приеду в Ленинград.
- Когда, Петенька? - радостным, молодым голосом спросила мама.
- Думаю, числа второго декабря,- ответил я.
- Так долго...
А рано утром 22 ноября почтальон принес телеграмму: "Мама умерла 21 ноября в 10 часов вечера. Катя".
Прощались с мамой в фойе Пушкинского театра. Пришло очень много народу. Пришли работники всех цехов театра: костюмеры, гримеры, портные, рабочие сцены - они очень любили Ирину Мейерхольд, любили с ней работать. Любили ее за сострадание, за доброту. Любили за ее любовь к Васечке.
Замечательные прощальные слова нашли И. О. Горбачев, О. Я. Лебзак. Декан института С. П. Кузнецов сказал: "Дочь гения, жена таланта, Ирина Всеволодовна сама была крупным художником, незаурядной личностью, красивым человеком".
СНАЧАЛА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ...
Самый первый момент (или самый ранний эпизод) моей жизни, который я помню,- это встреча с Бабой Ягой.
Около каменного дома стояла скамейка, на ней сидели моя бабушка Анна Ивановна, наша соседка Хрусталева, а я ходил по этой скамейке вдоль стены. В конце скамейки было окно. Я заглянул и встретился взглядом... именно с ней, с Бабой Ягой! Я очень испугался, побежал по скамейке к бабушке и зарылся в ее коленях. Это я помню. А как до этого мне рассказывали сказку про Бабу Ягу - не помню.
По рассказам моих близких, это могло быть только в Новосибирске, а значит не позднее 1945 года. Следовательно, мне не было еще двух лет. (Спустя почти 50 лет я был в Новосибирске, нашел наш двор - и сердце "екнуло", когда подошел к окну Бабы Яги. Правда, скамейки теперь там нет).
До этого случая был тот, которого я не помню. Но о нем часто-часто рассказывали мои родители. Как-то они вернулись с концерта из госпиталя, где им "в награду" дали какую-то емкость с чистым спиртом. Дома собрались актеры, которые были на этом концерте (Адашевский, Борисов, Березов, Киреев, Лебзак) и решили "согреться" этим спиртом, не разводя его водой. Налили всем по маленькой рюмочке. Я сидел у папы на колене, несколько "на отлете". В тот момент, когда папа накладывал в свою тарелку какую-то закуску, я схватил его рюмку и... Все вокруг меня забегали - ведь я задохнулся, слезы брызнули из глаз; бабушка совала мне в рот грибочек маринованный... Я отдышался, отсморкался в папин платок, вздохнул и сказал: "Ище".
Это было зимой сорок пятого. Еще шла война.
Как рассказывала мама, говорить я начал сразу и очень много, едва мне исполнился один год и два месяца. Когда я заболевал (а это было очень часто), я не плакал и не капризничал, а очень веселился, смеялся по каждому поводу и без оного. Очень долго (так долго, что и я помню это) меня смешило слово "на ночь". Я заливался таким смехом, что взрослые боялись, как бы со мной чего не случилось. Причина этого мне была ясна всегда, а взрослые понять не могли. Дело в том, что одну нашу родственницу звали Нана (ее полное имя Донара). И мне было смешно, что говорят не "Нана", не "Наночка", а что-то между этим - "На ночь".
Читать дальше