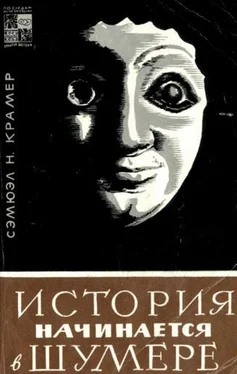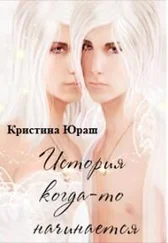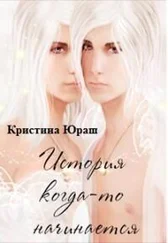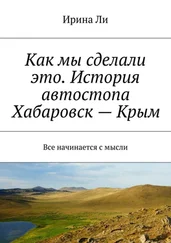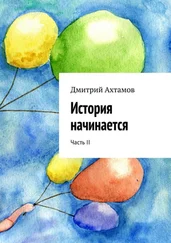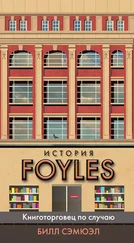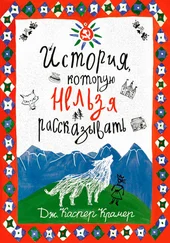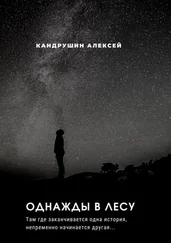Этими радостными, исполненными оптимизма словами учителя и завершается текст о школьной жизни. Вряд ли автор предполагал, что его литературную безделушку через четыре тысячи лет извлекут из-под развалин и что в двадцатом веке новой эры она будет восстановлена и прочитана профессором американского университета! К счастью, этот текст уже в древности стал популярен и получил широкое распространение, о чем можно судить хотя бы по тому, что мы располагаем сейчас 21 его копией, в различной степени сохранности. Тринадцать копий находятся в Музее Пенсильванского университета в Филадельфии, семь — в Музее Древнего Востока в Стамбуле, одна хранится в Лувре.
Документ дошел до нас в многочисленных отрывках, которые постепенно собирались воедино. Первый фрагмент был издан в 1909 г. тогда еще молодым ассириологом Гуго Радау. Но это был отрывок из середины текста, а потому Радау не смог понять, о чем идет речь. В течение следующих 25 лет новые фрагменты были опубликованы выдающимися, ныне покойными учеными Стефаном Лэнгдоном, Эдуардом Чиера и Анри де Женуяком. Однако их расшифровки все еще не раскрывали смысл всего произведения. В 1938 г., во время моего продолжительного пребывания в Стамбуле, мне удалось отыскать еще пять фрагментов. Один из них, в довольно хорошем состоянии, сохранился на табличке, на которой когда-то четырьмя столбцами был начертан весь текст целиком. Затем были опознаны другие фрагменты, хранившиеся в Музее Пенсильванского университета. Среди них оказалась хорошо сохранившаяся табличка в четыре столбца и множество обломков, на которых уцелели по одной-две строчки. В конечном счете сегодня текст, за исключением нескольких знаков, восстановлен практически полностью.
Однако это был только первый этап: оставалось еще сделать научно достоверный перевод, чтобы древний документ стал доступен широкому кругу читателей. Сделать такой перевод не менее важно, чем восстановить текст, и, пожалуй, гораздо труднее. Отдельные отрывки были с успехом переведены шумерологами Торкильдом Якобсеном (Восточный институт, Чикаго) и Адамом Фалькенштейном (Гейдельбергский университет). Их труды, а также многочисленные предположения, высказанные Бенно Ландсбергером, ранее работавшим в Лейпциге и Анкаре, а ныне профессором Восточного института в Чикаго, позволили подготовить первый полный перевод текста, который был опубликован в 1949 г. в Journal of the American Oriental Society.
Разумеется, многие слова и выражения шумерского текста до сих пор не вполне ясны. Но мы не сомневаемся, что в будущем какой-нибудь пытливый ученый сумеет сделать абсолютно точный перевод этого древнего документа.
Шумерская школа была довольно мрачной и неприветливой, программа обучения — сухой, преподавание — скучным и однообразным, дисциплина — суровой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые ученики под любыми предлогами пропускали занятия и становились, как теперь говорят, «трудными» детьми. Это подводит нас к первым письменно зафиксированным случаям «детской преступности». Относящиеся к данному вопросу документы любопытны сами по себе, не говоря уже о том, что в них впервые встречается шумерское слово «намлулу», то есть «человечность». Оно употребляется для обозначения поведения и поступков, приличествующих человеку.
3. Отец и сын
Первый «несовершеннолетний правонарушитель»
В наши дни преступность несовершеннолетних стала серьезной проблемой. Пусть нам послужит утешением то, что в древности дело обстояло немногим лучше! Своенравные, непослушные и неблагодарные дети были наказанием для своих родителей уже тысячи лет тому назад. Они слонялись по улицам и перекресткам и вертелись на людных площадях — может быть, даже целыми группами, — несмотря на все усилия их наставников. Они ненавидели учение и школу и досаждали своим родителям вечными жалобами и нытьем.
Обо всем этом мы узнаем из древнего шумерского текста, который лишь недавно был восстановлен. Этот документ, состоящий из семнадцати глиняных табличек и фрагментов, написан примерно 3700 лет тому назад. Вполне возможно, что текст был создан на несколько сот лет ранее.
Произведение, о котором идет речь, — диалог между писцом и его непутевым сыном, — предваряется введением. В нем отец более или менее дружески убеждает сына ходить в школу, прилежно учиться и возвращаться домой, не задерживаясь на улице. Чтобы убедиться, что сын слушает его внимательно, отец заставляет его повторять дословно каждую свою фразу.
Читать дальше