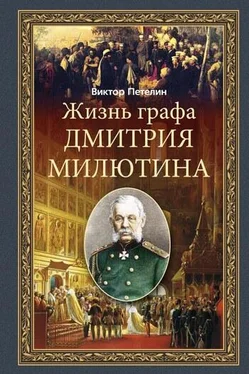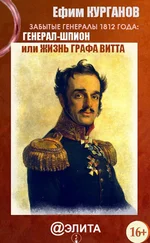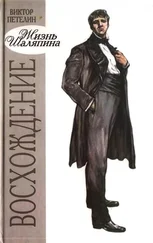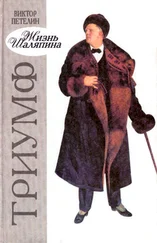Немало разговоров было в России о генерале Черняеве, и плохих и хороших, а Мещерский, прибыв в «маленький деревянный домик, где жил Черняев», сразу увидел в лице генерала легендарного народного героя: «Его светлая и честная вера в свое призвание этой исторической минуты, его детская искренность и правдивость, его высоконравственная честность, его горячие и пылкие чувства, его безграничное самозабвение и, наконец, из всех его духовных пор выступавшая боевая храбрость – все это вместе очаровывало вас, притягивало к нему, держало во власти его обаяния и наполняло вас к нему любовью, уважением и упованием» (Там же. С. 554). Но тут же князь почувствовал, что Черняев мучительно страдает от рокового бессилия что-то серьезное сделать. Все его предложения отвергались, а люди, что окружали его, тоже были бессильные. «Вернулся я в Белград, и дорогою чувствовал и думал о том, что с иными совсем впечатлениями на душе еду я обратно; не то грусть, не то досада, не то тоска лежали камнем на душе, и весь этот чудный сон, в котором я жил еще так недавно, разрушен был горькою и прозаическою действительностью… Я чувствовал и сознавал, что видел жалкую комедию, и возвращался, как из театра возвращается зритель, ожидавший наслаждений и ничего не испытавший, кроме разочарования» (Там же. С. 547).
Я привел здесь два взгляда на то, что происходило в Сербии, оба эти взгляда, разные по своим фактам и душевным переживаниям, передают многогранную картину русской действительности того времени.
Милютин вместе с Александром Вторым из Варшавы приехали на отдых в Ливадию. 30 августа – именины императора, а он все это время был мрачен, что-то беспокоило его, скорее всего Восточная война, в свите – разлад, императрица больна, Милютин жил здесь по обычаю и распорядку императора, только присутствие дочери и скорое свидание с женой успокаивало его. Но никаких поручений император не давал Милютину. На два дня уехал в Симеиз, а 3 сентября вернувшийся Милютин делал доклад императору. По-прежнему в Ливадии много было разговоров о Восточной войне, князь Горчаков, как только ненадолго уехал Милютин, говорил в беседах о желании повидаться с ним. Только побывав у Александра Второго и выслушав его, Милютин понял, что за эти два дня его отсутствия Горчаков внушил императору, что война – это все равно что сочинить дипломатическую депешу, передал императору свои детские, самые смутные представления. Милютин высказал свое мнение о войне как трагическом разрушении прежних связей, как тяжелом бремени для страны и для всего мира. По совету императора Милютин побывал у князя Горчакова, который говорил только о своей блистательной дипломатической карьере, ссылался на какое-то анонимное письмо, прославляющее его прежнюю карьеру и предлагающее подать в отставку из-за своей старческой дряхлости, пусть молодые министры вершат иностранными делами. При Милютине князь Горчаков получил шифрованную телеграмму из Константинополя о том, что турки отказываются от перемирия и продиктовали совсем иные условия мира. Горчаков попросил Милютина передать телеграмму императору, который, прочитав ее, написал на телеграмме свою резолюцию: надо прервать дипломатические отношения с Турцией и готовиться к войне.
«Как легко и просто решаются столь глубинные дела, – подумал Милютин, выходя из кабинета императора. – Получил телеграмму и быстро нанес на ней свою резолюцию. А не лучше бы посоветоваться с умными людьми? Такая поспешность может кого угодно напугать. А не лучше было бы послать посла Игнатьева в Австрию и переговорить с Андраши, чтобы Австрия заняла северные области Европейской Турции? Прекратить резню в славянских землях Турции? Создать конференцию и обсудить положение в Европе, ведь Франция, Италия, Германия, Англия согласны принять участие в конференции, только Австрия колеблется…»
Милютин после доклада у Александра Второго послал в Петербург и на Кавказ свои предложения по разработке планов о готовящейся войне, а сам отбыл в Керчь осмотреть крепость и готовность ее к войне. Потом побывал в Очакове, Николаеве, Севастополе… Никто и не готовился к войне. Милютин доложил и Александру Второму, но судьба этих крепостей оставила его равнодушным. Его занимали только политические дела.
«Между тем общественное возбуждение в России возрастало с каждым днем. На пламенные воззвания славянских благотворительных комитетов все круги русского общества откликались обильными пожертвованиями на славянское дело. Таких пожертвований с начала восстания в Герцеговине и по осень 1876 года поступило в петербургский комитет свыше 800 000 рублей и около 700 000 рублей в московский. Русские добровольцы отправлялись в Сербию целыми партиями, в числе их сотни казаков с Дона. На обмундирование их сукно и холст отпускались из казенных складов. Особенно кипучую деятельность проявлял в этом смысле Московский славянский комитет, во главе которого стоял И.С. Аксаков, отправивший в Ливадию нарочного посланца, чтобы непосредственно довести до сведения государя о настроении умов в Москве и во всей России. 21 сентября император Александр милостиво принял этого посланца, А.А. Пороховщикова, и со вниманием выслушал доклад его о стихийном народном движении, растрогавший государя до слез. Отпуская, император обнял его и поцеловал, «за то, – как сказал государь, – что ты понял важность исторической минуты и сам пришел сюда» ( Татищев С. Император Александр Второй. С. 680–681).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу