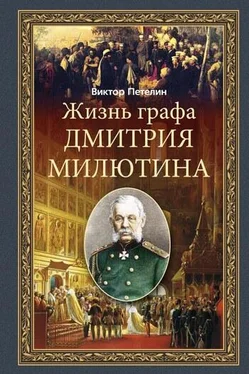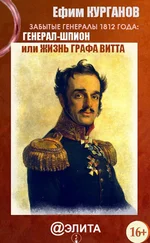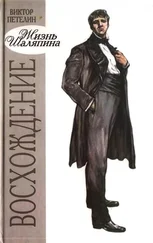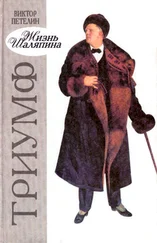Страницы тогдашних газет и журналов представят историку обильный материал для изображения нашего умственного убожества, особенно если иметь в виду, как скоро и без всякого следа прекратилось это напускное исступление.
Нельзя, конечно, винить Милютина за то, что он не понимал дела, о котором идет речь, – не понимал он его уже потому, что образование его было дюжинное, – но совершенно непростительно, что это нисколько ему не помешало выступить в роли одного из главных руководителей агитации самой недобросовестной и нелепой.
Еще прискорбнее, что во всем этом на первом плане стояло непомерное его самолюбие. Он был создателем военных гимназий, преобразованных им из кадетских корпусов; как всякое дело его рук, и эти гимназии казались ему образцом совершенства, и вдруг ему говорят, что, быть может, они и очень хороши (хотя это подлежало сильному сомнению) как специальные заведения, предназначенные готовить для армии офицеров, но что было бы вопиющим абсурдом считать их идеалом общеобразовательной школы. Он решительно не хотел примириться с такою ересью.
Тщетны были всякие попытки образумить его. Люди, к которым относился он с особым уважением и доверием, не имели в этом случае никакого на него влияния.
Однажды случилось мне у него обедать с Юрием Федоровичем Самариным, который, затронув жгучий вопрос, доказывал долго и обстоятельно, что не может быть и речи о какой-то системе реального образования, что это не более как мираж, что основой общеобразовательной школы во всей Европе служит и всегда будет служить система классическая. Редко когда Самарин говорил так убедительно, с таким увлечением, но слова его, видимо, не производили на Дмитрия Алексеевича ни малейшего влияния: сперва он пытался возражать, а затем отделывался угрюмым молчанием.
Когда начались нападки на него в печати, то в раздражении своем он уже решительно не был в состоянии владеть собой. Особенно чувствительна для него была полемика «Московских ведомостей»… Катков не разделял образа мыслей Д. Милютина, а Д. Милютин, сознавая это, сторонился от него также и потому, что вообще люди с самостоятельным, сильным характером никогда не привлекали его к себе…»
Катков в своих статьях в «Московских ведомостях» остро ставил вопрос, ссылаясь на исторические основы образования в европейских школах, что все европейские школы половину времени уделяют древним языкам, древнегреческому и латинскому: «Главным образом на двух языках, принадлежавших двум исчезнувшим с лица земли народам, с которых началась история Европы и которых культура легла в основу всего последующего развития образованного человечества. К этим двум языкам и их литературам присоединяется общая или начальная математика… Все прочие предметы преподаются в ограниченных размерах… Посредством изучения этих языков учащиеся знакомятся не через чужие пересказы, а собственным чувством и собственной мыслью с великими основными фактами умственной жизни всего образованного человечества. Каждое слово этих языков есть уже факт исторический…»
И уж совсем для уточнения той полемики, которая была между Милютиным и графом Толстым, приведу его слова, сказанные на заседании Государственного совета при обсуждении законопроекта «Об изменениях и дополнениях в уставе гимназий и прогимназий, высочайше утвержденном 19.XI. 1864 г.»: Д.А. Толстой, признавая ошибочными все реформы в школьном образовании за последние двадцать лет и предлагая восстановить классическую систему воспитания и обучения, сказал, что «в изгнании древних языков и особенно языка греческого из наших школ, в этом приноровлении гимназического курса к практическим целям заключалась если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного сомнения; ибо вопрос между древними языками, как основою всего дальнейшего научного образования, и всяким другим способом обучения есть вопрос не только между серьезным и поверхностным учением, но и вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно, и всего общества».
Как видим, не так уж и глуп был граф Толстой, который твердо стоял на нравственном направлении обучения и воспитания в гимназии и прогимназии; уверен, что и Милютин был на стороне нравственного обучения юношества, особенно в военных учреждениях, где высокая нравственность, служба и защита Отечества, исполнение отечественного долга – священные чувства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу