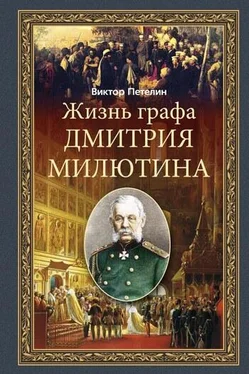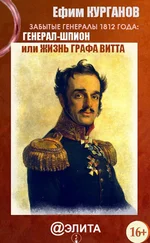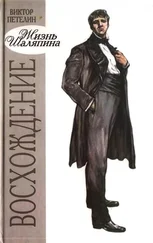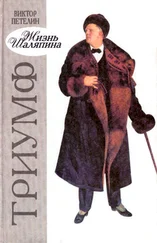И полемика в печати тоже была по сути о новом Положении о полевом управлении войск, многие части которого нуждались еще в улучшении.
К полемике Милютин привык, почти вся жизнь его была в противодействии каким-то препонам. И немало в его военной судьбе случаев, когда человек пребывал, допустим, в каком-то тайном революционном обществе под воздействием идей Герцена и Чернышевского, ратовал за созыв бессословного народного собрания, за право каждого на землю и прочие демократические лозунги, а потом, одумавшись, приходил к общегосударственным ценностям. Совсем недавно Николай Николаевич Обручев (1830–1904), профессиональный военный, закончил кадетский корпус и Академию Генерального штаба примкнул к обществу «Земля и воля», познакомился там со всеми руководителями – и со Слепцовым, и с Серно-Соловьевичем, и с Курочкиным, но потом понял узость и бесперспективность этого общества и вновь полностью отдался военному делу, генерал-майор, профессор Николаевской академии Генерального штаба, а совсем недавно назначен на должность члена и управляющего делами Военно-ученого комитета, ближайший помощник военного министра, редактор военно-научного журнала «Военный сборник». Крупный теоретик и стратег, некоторые военные в шутку поговаривают о нем как о «русском Мольтке», великом реформаторе прусской армии. И такая бывает полемика с самим собой… Чего только не случается с человеком в молодости, особенно тогда, когда он хочет быть полезным своему Отечеству.
Милютина привлекла и судьба Павла Матвеевича Обухова, с большой золотой медалью он закончил Институт корпуса горных инженеров, блестящий изобретатель, его пушка из обуховской стали на Всемирной выставке в Лондоне сделала без повреждений четыре тысячи выстрелов и получила золотую медаль. Вместе с горным инженером Путиловым он построил крупный сталелитейный и орудийный завод в Петербурге… Зачем теперь нам покупать орудия за границей? Но с императором и по этим вопросам приходится полемизировать, спорить… Ведь Александр Второй хоть и поддерживал военные реформы, но душой он был со старыми порядками, любил военную форму, строевую подготовку николаевских офицеров и солдат, парады, полковые праздники… А теперь вот отвечай на полемику фельдмаршалу Барятинскому и генералу Фадееву. Не только отвечать на полемику, но и как можно больше выпросить у министра Рейтерна финансовой поддержки, сколько уж лет идет реформа, а денег не дают и не дают, а если дадут, то по минимуму.
Иной раз советники указывали Милютину на книгу покойного Александра Ивановича Астафьева (1816–1863) «О современном военном искусстве» – генерал, военный теоретик, его книга действительно оказала влияние и на самого Милютина, и на окружающий его мир соотечественников; чаще указывали на графа Гельмута Мольтке (1800–1891), фельдмаршала и крупного реформатора прусской армии, выигравшей битвы и с датчанами, и австрийцами и чувствующей себя властелином на Европейском континенте; указывали и на фельдмаршала Румянцева, выигравшего и Семилетнюю войну, и 1-ю Русско-турецкую, названную по его имени – Румянцевской, имевшего в учениках и последователях Суворова, Кутузова, Потемкина. И столько возникало других идей и направлений, и все вроде бы заманчивые, влекущие их осуществить… И Милютину чаще всего приходилось оказываться в роли Дон Кихота, который что-то хочет сделать благородное и высокое, а, оказывается, налетает с поднятым копьем на какую-нибудь простую ветряную мельницу, и вся эта затея оказывается зряшной… А тут еще и Отто фон Бисмарк со своими претензиями объединить все германские королевства и княжества, а это значит увеличение расходов на армию в несколько раз большую, чем русские финансы, идущую на армию, а в итоге наша армия слабеет, а германская становится все сильнее и сильнее… А так не хочется оказаться в роли Дон Кихота, благородного в своих помыслах и бессильного в повседневных делах.
В 1867 году генерал-майор Фадеев работал в Военном министерстве и писал в газетах и журналах лишь в пользу военных реформ. Печатался он в то время в «Русском вестнике», журнале близкого Милютину Каткова: «Общее преобразование наших военных учреждений, – вспомнил Милютин статью Фадеева, – начавшееся с 1862 года, справедливо может быть названо девятнадцатым февраля русской армии… Значение закладываемой военной системы так велико, что его нельзя судить в полном объеме с одной положительной точки зрения, по тому только, что уже совершено или будет совершено в ближайшее время. Главная черта его – установление правильного соотношения между потребностями и средствами, подведение к каждой потребности того именно источника, из которого она самым естественным образом удовлетворяется, одним словом, замещение искусственного, заимствованного устройства вооруженных сил устройством натуральным, соответствующим нашим особенностям и в этом смысле национальным русским… Главная заслуга совершаемого ныне преобразования состоит в том, что оно одинаково раскрывает дверь будущим, как и насущным потребностям, равно облегчая удовлетворение их…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу