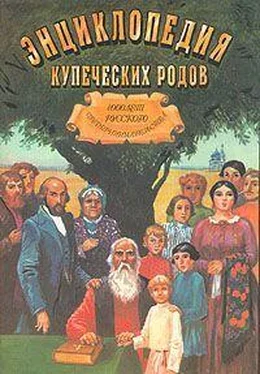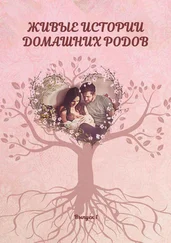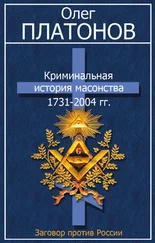Живой ум Павла Михайловича не мог удовлетвориться традиционными формами торгового труда, и он с интересом знакомился с техникой небольшого фабричного дела у дяди Артема Яковлевича, устроившего в 1830 году бумаготкацкую фабрику на Яузе. В 1846 году Михаил Яковлевич купил ткацкую фабрику, находившуюся недалеко от него в Якиманской части, и на следующий год перевел ее в свой дом. К 50-м годам Павел Михайлович настолько изучил у себя и на других московских фабриках технику ткацкого и бумагопрядильного дела, что стал незаменимым помощником отцу, затрачивая массу энергии на устройство новых фабрик в Калужской губернии, в Новонасонове, Медынского уезда, где была прежде только контора по раздаче кустарям пряжи, и в Чурикове Малоярославского уезда.
До 25 лет Павел Михайлович числился купеческим сыном и самостоятельно гильдии не платил, но правительственные мероприятия против торговой деятельности старообрядцев, которыми предполагалось понудить их к переходу в единоверие, заставили подумать о получении самостоятельных торговых прав. В 1854 году одна из рогожских часовен была обращена в единоверческий храм. Одновременно с этим объявлено было, что с 1 января 1855 года старообрядцы лишаются права записи в купечество. Это распоряжение правительства произвело громадный переполох среди старообрядцев торгово-промышленного класса и содействовало очищению старообрядчества от более слабых его элементов. Около трети обращений в единоверие последовало 30 и 31 декабря 1854 года, т. е. в последние числа, назначенные для объявления купеческих капиталов. Лишение права внесения купеческого капитала вело неминуемо к выполнению рекрутчины с ее двадцатипятилетним сроком службы.
Как ни поглощены были Рябушинские интересами своего дела, но они не подчинили им своих религиозных взглядов. Павел и Василий Михайловичи перестали числиться купеческими детьми и записаны были снова в московское мещанство. Но скоро до семьи Рябушинских дошли слухи, что за 1 400 верст от Москвы имеется вольный город Ейск. Этот город, основанный в 1848 году, получил различные льготы для его скорейшего заселения, и, благодаря этим льготам, запись старообрядцев в ейское купечество оставалась пока возможною.
Справив необходимые документы в мещанском управлении, Павел Михайлович спешно на перекладных отправился в дальний путь за гильдейским свидетельством; этот трудный в то время переезд не обошелся ему легко, так как близ Ейска он сломал себе руку, но тем не менее воротился домой в Москву, не только сам ейским купцом 3-й гильдии, но и привез гильдейские свидетельства брату Василию Михайловичу и зятю Евсею Алексеевичу Капусткину.
Вскоре после смерти Михаила Яковлевича Рябушинского в том же 1858 году указом Московской казенной палаты оба брата были снова причислены в московское купечество на временном праве и записались во вторую гильдию, а в I860 году и с 1863 года до конца жизни платили первую гильдию.
В конце 50-х годов энергия Павла Михайловича была главным образом поглощена организацией фабрик.
В Архиве Старых дел имеется рапорт от 27 февраля 1849 года московского обер-полицеймейстера генерал-губернатору, в котором сообщается, что фабрика Михаила Рябушинского «заведена им в 1846 году в доме Комитета Человеколюбивого общества, а оттуда в 1847 году переведена в собственный его дом; но разрешения на существование этого заведения он, Рябушинский, никакого не имеет, кроме получаемых им из Дома Московского градского общества купеческих свидетельств». В Архиве Купеческого общества никаких сведений о фабрике не имеется, и в гильдейском заявлении в 1845 году показано имущество: 1 лавка и 2 дома в Голутвине, а в следующих годах повторяется: «недвижимое имение все то же». Сопоставление этих данных позволяет предположить, что фабрика существовала без разрешения не только три года, так как заводить фабричное производство в чужом доме на один год, в то время как имелось свое помещение, едва ли могло быть выгодно.
Из того же рапорта обер-полицейместера видно, что фабрика была небольшая; «машин никаких нет, а имеется 140 станов, при которых рабочих находится 140 человек, на годовое же отопление сказанного заведения и кухни для рабочих употребляется 25 сажен трехполенных дров».
Вопрос о топливе, видимо, очень занимал генерал-губернатора Закревского, так как он ко всем фабрикантам в то время предъявлял требования о замене дров торфом, так что, по словам А. Н. Найденова, все принуждены были для удовлетворения начальства держать напоказ штабели торфа, которым отапливать было еще тогда убыточно. В разрешении на фабрику, данном Михаилу Яковлевичу Рябушинскому, значится: «Чтобы дров на отопление фабрики употреблялось в год не более 130 сажен трехчетвертной меры, да и те стараться всячески заменять торфом».
Читать дальше