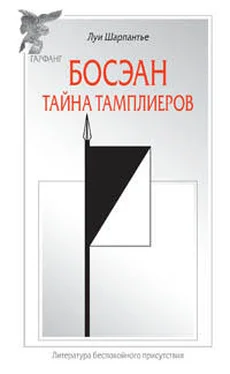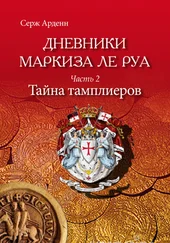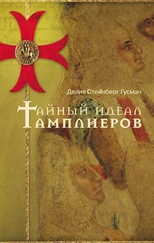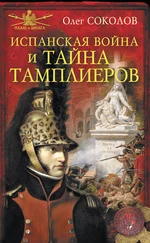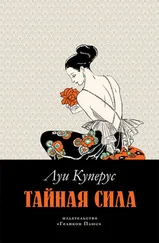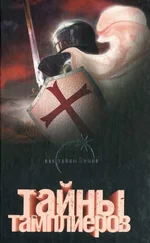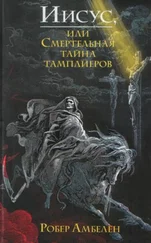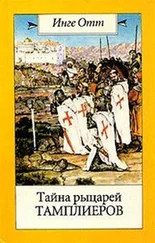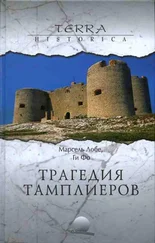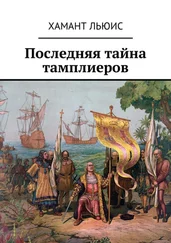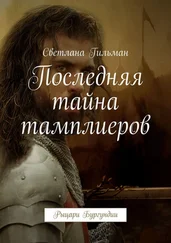Лабиринт, очарованный лес…
Можно что угодно запрятать в этом лесу и никогда не отыскать без «волшебного слова». Поближе к сердцу леса орден Тампля соорудил систему водоемов.
Зачем? Рыбу ловить? Разве мало естественных прудов?
Система искусственных водоемов еще более затрудняет доступ. И еще один резон: тайники.
Лесная почва всего региона — так называемая «гастина», тяжелая глина, под ней — не пропускающий воду известняк.
Между прочим, орденские мастера (не религиозные архитекторы) при выделке подземелий использовали водонепроницаемую смесь разных сортов глины, напоминающую консистенцией современный цемент.
Дно искусственного водоема с его регуляцией воды — что может быть лучше для устройства тайника? Заниматься поисками в таком месте явно небезопасно.
Радиэстезия равно бесполезна из-за плотного слоя воды.
Может быть, командорства или байли скрывали свои ценности в донной земле искусственных водоемов?
Надо, правда, заметить: я насчитал в лесу Форе-д' Орьян пятьдесят пять водоемов, а сколько их там еще…
Если тайники существуют, отыскать их не так просто.
Очарованный лес… Роман Кретьена де Труа: вновь и вновь Персеваль лабиринтально кружит на подступах к замку Грааля.
Действие идет в Галлии, но эта Галлия напоминает лесистый регион Шампани — родные места Кретьена де Труа. И словно в романе — на окраинах Форе-д' Орьян два аббатства — Ларривур и Басс-Фонтен.
Персеваль расспрашивает старого отшельника, затем углубляется в лес: впереди — «гора Скорби». На вершине — «дуб ста светильников», где только самый бесстрашный рыцарь оставит коня…
Замок Грааля о четырех угловых башнях сокрыт от профанического взгляда. Охраняет замок король Рыболов. Разве мудрено найти короля сего среди многочисленных водоемов Форе-д' Орьян?
Замок короля Рыболова. Сказочные замки под водой.
Романы Кретьена де Труа, Гио Провинцала (наверняка имеется в виду Гюйо де Провенс) и Вольфрама фон Эшенбаха — путеводы, итинерары, тропинки…
Здесь и Там. В стихотворении Уильяма Блейка паломник входит в церковь: в алтаре ползет змея и плюется ядом на Святые дары. Коли дело обстоит так, пойду и лягу в хлеву со свиньями, решает паломник в начале девятнадцатого века. Потусторонние силы открыто глумятся над христианской святыней. Похоже, это конец. Здесь плохо, там совсем плохо. Там.
Античности чужда потусторонность и трансцендентость, античность всегда упрекают в переизбытке чувственной телесности. Откуда ей взяться, потусторонности, если нет понятия смерти? Танатос — потеря памяти при трансформации индивидуальности, ерунда по сравнению с величием и кардинальностью Смерти. Языческая философия не видит разрыва в единой цепи бытия, а потому ничего не понимает в иудео-христианской догматике. Плотин удивляется: христиане презирают конкретную землю и чувственно воспринимаемые вещи, утверждая, что для них уготована какая-то новая земля. «По христианским понятиям, душа любого, даже самого низкого, человека бессмертна, в отличие от звезд, несмотря на их дивную красоту». И полное недоумение: «Как возможно этот мир и его богов отделять от интеллигибельного мира и его богов?» (Эннеады, 2, 9.)
«Красота» — ключевое слово античной культуры, красота ведет к трудно достижимому «благу». Но дорога к пониманию красоты доступна только свободному человеку. Это «аристос», то есть достойный познать «благо». Люди несвободные — instrumentum vocales (инструмент говорящий), и больше ничего, будь они хоть сто раз богаты и родовиты. Отсюда совершенный абсурд христианства, по мнению языческой философии первых веков.
Арето — добродетель, аретология — учение о добродетели. Греческая культура, в отличие от средневековой, не разработала досконально этого учения. Единый полюс нравственного бытия — свобода; правильное воспитание способствует достижению свободы, так как пороки — пьянство, сладострастие, подобострастие, алчность, трусость — оттесняют к периферии зависимости и рабства. «Если какая-либо драгоценность, женщина, ребенок, — писал Архилаос (Спарта, IV век до н. э.), — слишком волнуют и притягивают тебя, отдай это, уйди от этого, если какое-нибудь божество слишком притягивает тебя, уйди в другой храм». И Кратил (Афины, IV век до н. э.): «Если нечто ужасает и отвращает, не спеши с выводами, вспомни: почему и каким образом возникли в тебе ужас и отвращение». Крайняя осторожность в оценках: суждение — «нравится или нет», «мое или не мое», «красиво или нет» — возможно лишь в процессе анамнезиса, в постижении индивидуального логоса.
Читать дальше