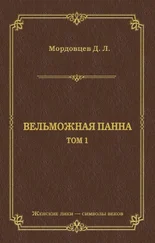Мордовцев Даниил Лукич
Видение в публичной библиотеке
Даниил Лукич МОРДОВЦЕВ
ВИДЕНИЕ В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
================================================================
А н н о т а ц и я р е д а к ц и и: Творчество писателя и
историка Даниила Лукича Мордовцева (1830 - 1905) обширно и
разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как
художественные, так и документальные, написанные, как правило, с
передовых, прогрессивных позиций, всегда с большим интересом
воспринимались современным читателем, неоднократно
переиздавались и переводились на многие языки. Из богатого
наследия писателя в сборник вошли произведения, тематически
охватывающие столетие русской истории: "Сиденне раскольников в
Соловках" (конец XVII века), "Державный плотник" (о Петре I)
"Наносная беда" и "Видение в Публичной библиотеке" (время
Екатерины II)
================================================================
I would recall a vision which
I dream'a Perchance in sleep...
(Byron. "The dream")*
Ясный тихий июльский день клонится к такому же ясному тихому вечеру. Спускающееся где-то там, за финляндским горизонтом солнце обливает червонным золотом массивный купол Исаакия, острые шпицы Адмиралтейства и Петропавловский собор. Вдоль Невского тянутся привычные для глаз световые полосы от правой стороны к левой, а гигантская тень от Публичной библиотеки все вырастает и тянется все дальше и дальше.
_______________
* Виденье помню я, о нем я грезил
Во сне, быть может, - ведь безмерна мысль...
(Байрон. "Сон")
Пер. с англ. М. Зенкевича
Тихо в Публичной библиотеке. Время стоит летнее, жаркое. Учащаяся молодежь еще не съезжалась к приемным экзаменам, набирается сил среди родных полей и лесов; остальная петербургская интеллигенция отдыхает по дачам, по деревням, на водах; ученые люди делают свои летние ученые экскурсии; в Петербурге остаются только товарищи министров, наборщики да дворники. Читальные залы и отделения Публичной библиотеки пусты. Оттого и тихо так.
Только в Ларинской зале над большим столом наклонилась седая борода и шуршит жесткими пожелтевшими листами старой книги. В "Россика", в углу, виднеется классическая фигура спящего сторожа. Тихо кругом, так тихо, точно на кладбище. Да это и в самом деле великое, мировое кладбище голов человеческих, гениальных, умных и - увы! глупых. Только извне в это тихое пристанище смерти и бессмертия доносятся неясные отзвуки жизни. То задребезжит нетерпеливый звонок конки, то прогромыхает по глухому торцу извозчичья карета, отзовется где-то гармоника, и опять все тихо. На карнизах, за окнами, голуби хлопают крыльями об стены и гнусливо воркуют. То прорежет воздух резкий писк стрижей - и словно растает в этом же воздухе.
Как тихо, как хорошо, как задумчиво работается среди этого могильного уединения, летом, в нашем драгоценном книгохранилище! Только тот, кто работает в нем летом и - раздумывался над отошедшею в вечность жизнью и мыслью людей, имена, чувства, деяния и помыслы которых как бы замурованы, словно египетские мумии в катакомбах, в этих бесконечных рядах массивных шкапов и витрин, только тот поймет чистые наслаждения, даваемые душе этой работой, а иногда и жгучую, обидную тоску о том, что все это, отошедшее в вечность, должно было бы быть не тем, чем оно было...
Удар крыльев голубя о стекло выводит седую бороду из задумчивости. Он встает и разминает окоченевшие от продолжительного сидения члены.
Влево, в мраморном кресле, с обращенным к западу бледным лицом покоится мраморный старик. Нервное, худое, высохшее до костей лицо его глубоко задумчиво и глубоко скорбно, до того скорбно, что оно кажется перекошено от злобы. Но это не злоба, а скорбь, беспросветная, безнадежная за все человечество скорбь.
Седая борода тихо, как-то робко приближается к мраморному старику, сидящему в глубоком мраморном кресле. Костлявые худые руки с тонкими и крючковатыми, словно когти хищной птицы, пальцами, кажется, бессильно впились в мрамор ручек кресла да так и окаменели в своем бессилии. Худое, остроконечное и ссохшееся, как у Агриппины-старшей, лицо вытянуто вперед, словно старик, что-то созерцая, вслушивается во что-то, что не от мира сего, но и от этого именно мира. Белки мраморных глаз кажутся белками слепого, который прислушивается к работе своего собственного мозга, заключенного под этим мраморным черепом. Жидкие, тонкими прядями волосы обрамляют покрытый резкими морщинами гениальный лоб. Голову охватывает узкая ленточка, ну, сущая Агриппина-старуха! Тонкие губы до того ввалились в беззубый рот и до того сжаты, что, кажется, деснам больно, хоть они и мраморные. Жестко сидеть старику, уж он слишком долго сидел на своем веку, бичуя зло и глупость человеческую, издавая книгу за книгой, которые, как беспощадная артиллерия, пробивали брешь за брешью в отживших, но все еще крепких, как стены пеласгийских построек, человеческих ложных верованиях, и под него подложили мраморную подушку, чтобы ему не жестко было сидеть и громить старые стены человеческой глупости.
Читать дальше