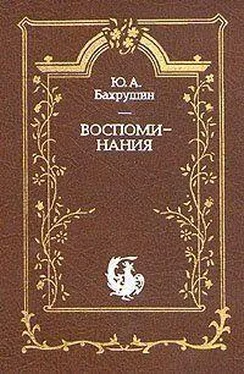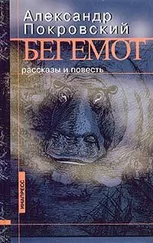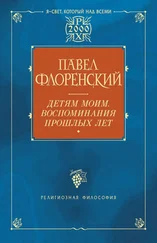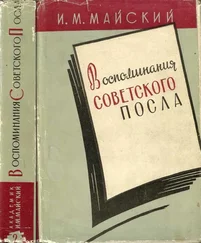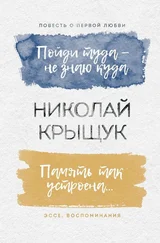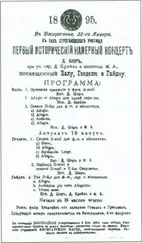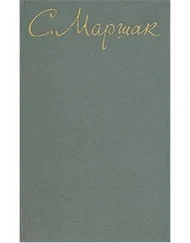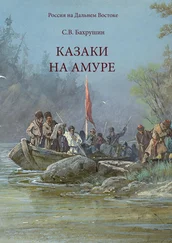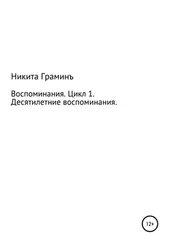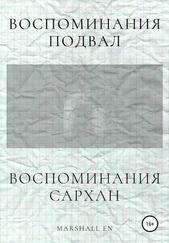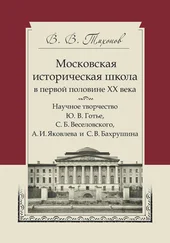— Вот вам наказание за то, что не хотели с соседями знаться, — сквозь смех наконец проговорил Кругликов. — Сидите теперь здесь до утра!.. Ничего, — прибавил он, — не беспокойтесь, через полчасика все пройдет — я не виноват, это мой мед с вами играет.
Действительно, через короткое время я почувствовал, как мои ноги постепенно отходят, и я смог распроститься с радушными хозяевами, передав им приглашение моих родителей посетить нас.
Через день-другой к нам на лодке приехал Кругликов, еще издали был слышен его приятный тенор, разносивший по окрестностям слова романса Даргомыжского «Нас не в церкви венчали». С этого момента началась наша дружба с этим интересным человеком.
Собственно говоря, Кругликовым и ограничилось наше знакомство с соседями, если не считать знакомства с еще другим помещиком, которому мои родители нанесли визит, чем дело ограничилось. Остальные окружные усадьбы либо пустовали, либо находились в процессе смены своих владельцев. Это не мешало моей природной любознательности находить удовлетворение в посещении и обследовании этих доживавших свой век, пустовавших дворянских гнезд.
По ту сторону реки ближайшим имением было село Милюково, в последнее время принадлежавшее Ляпиным. Среди прекрасного старинного липового парка, раскинувшегося на берегу реки, стоял двухэтажный дом, выкрашенный охрой, с белыми колоннами. Внутри ничего примечательного, кроме великолепной мебели карельской березы, не было. Усадьба продавалась и вскоре была приобретена Ижболдиными.
Далее по течению реки расположилась вельможная усадьба Мусиных-Пушкиных, село Старо-Никольское. На крутом берегу реки высился огромный каменный дом екатерининской стройки с бельведером и стройными пилястрами, но в архитектурном отношении не представлявший особого интереса как снаружи, так и внутри. Надворные постройки более позднего времени были куда интереснее и напоминали работы Джильярди. От посещения дома у меня осталась в памяти лишь обширная библиотека, расположенная в бельведере. Парк был старинный и запущенный — висячие пруды были затянуты тиной или стояли без воды, канал, подходивший к самому дому, обвалился и высох, мосты через него были сломаны, а садовые постройки разрушены. Некогда виды этого имения были гравированы и изданы, но мне никогда не приходилось их встречать. В давние времена эта усадьба в течение более чем ста лет находилась во владении бояр Ртищевых, один из которых руководил мастерскими Оружейной палаты и был большим знатоком искусства. От того отдаленного периода осталась замечательная церковь, к сожалению, ныне не существующая. Она стояла на месте, где когда-то высился Старо-Никольский монастырь — один из форпостов Москвы, упраздненный еще при Иоанне Грозном. Памятником того времени остался большой каменный обелиск, воздвигнутый на месте престола монастырского храма. Рядом с ним в середине XVII века была построена двухэтажная каменная церковь с лестницами, ведущими во второй этаж. Внешне это здание не представляло интереса, но внутри было чудом искусства русских резчиков по дереву. В сложнейший по своему орнаменту резной иконостас были вплетены резные фигуры святых и ангелов. Царские двери, представлявшие благовещение, были также резные. Внутри купола были расположены скульптурные фигуры евангелистов, святых и ангелов, также из дерева, но выкрашенные белой краской под мрамор, что оттеняло их на небесно-голубом фоне стен. Этот замечательный памятник «нарышкинского барокко», по моему мнению, намного превосходил знаменитый иконостас в Дубровицах. Сфотографировать внутренность церкви было невозможно из-за малой площади самого храма, который весь уходил ввысь.
В отдельном резном киоте хранилась чудотворная икона Николая-Чудотворца — вклад боярина Ртищева. Этот образ первоклассного письма был любопытен еще и тем, что был подписной и имел «летопись», то есть по его бокам была изложена вся его история. Из этой краткой записи явствовало, что первоначально икона была написана в конце XVI века, долго хранилась в семье, пока не была похищена разбойниками во время ограбления хозяина на большой дороге. Затем образ был таинственно подкинут во двор Ртищева, но оклад с него был содран и «вапы поблекли» 2*, но через несколько дней выцветшие краски каким-то чудесным образом приобрели снова прежнюю свежесть и яркость. Впрочем, это не помешало Ртищеву в самом конце XVII века отдать икону в реставрацию, которая и была блестяще выполнена живописцем Оружейной палаты Злобиным. подписавшимся на иконе.
Читать дальше