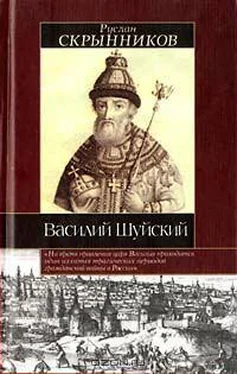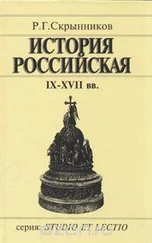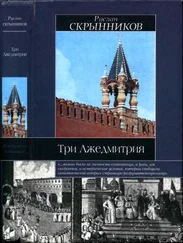При Лжедмитрии I службу в Москве несли несколько тысяч стрельцов. Шуйскому пришлось удалить из столицы самые преданные самозванцу стрелецкие сотни. Много московских стрельцов было послано против мятежников в действующую армию и в гарнизоны. Сотни, посланные в Коломну, перешли на сторону восставших. Таким образом, к началу осады стрелецкий гарнизон столицы оказался ослабленным.
Главной опорой трона во время осады Москвы оставался Государев двор. Ядром двора были 200 стольников и еще несколько сот больших московских дворян, жильцов и стряпчих. Власти пытались вызвать подкрепления из провинции, но их усилия не дали результатов.
На протяжении всей московской осады правительство распространяло весть о том, что «новгородские, псковские и смоленские силы тянутся на помощь государю». В действительности подкрепления прибыли лишь из Смоленска, притом с опозданием почти на месяц.
Имея примерно 20 тысяч человек, мятежники не могли осуществить тесную блокаду такого огромного по территории города, как Москва. К тому же необходимости в такой блокаде не было. Ко времени осады столица оказалась в кольце восставших городов.
Снабжение Москвы всегда зависело от своевременного подвоза хлеба из Рязани и других уездов. Год выдался неурожайный, и трудности с продовольствием стали ощущаться в столице уже на исходе лета. Восстание на Рязанщине, на тульской и северской окраинах усугубило дело.
После похода под Елец и Кромы многие ратные люди пришли к царю в Москву, но «с Москвы разъехались по домам для великой скудости». После падения Коломны, Калуги, Можайска, Волоколамска цены на хлеб на столичных рынках подскочили в 3–4 раза. Дворянская кавалерия осталась без фуража.
Царь Василий не имел ни казны, ни запасов хлеба, чтобы предотвратить голод в столице. Его положение казалось безнадежным. В беседах с друзьями Стадницкий говорил, что в дни осады «как воры под Москвою были… и как государь сидел на Москве с одними посадскими людми, а служилых людей не было, и… было мочно вором Москва взяти… потому что на Москве был хлеб и дорог и… государь не люб боярам и всей земли и меж бояр и земли рознь великая и… (у царя. — P.C.) казны нет и людей служилых».
Царь Василий не сумел предотвратить осаду столицы, что немедленно сказалось на его взаимоотношениях с Боярской думой. «Государь не люб боярам» — эти слова точно отразили ситуацию. В течение полугода Шуйский демонстрировал твердое намерение править царством вместе с боярами. В решающий момент он подчинил все силы главе думы, который проиграл битву.
Поражение углубило рознь между боярами и «всей землей». Царь Василий пустил в ход все свое дипломатическое искусство, чтобы собрать рассыпавшуюся в его руках храмину власти.
Брожение в низах не прекращалось. В город постоянно проникали лазутчики с «прелестными» письмами от имени «Дмитрия». Положение Москвы было критическим. «По причине великого смущения и непостоянства народа в Москве» никто не мог предсказать исхода борьбы за столицу.
На первом этапе гражданской войны атаман Корела привел в Москву Гаврилу Пушкина, что послужило толчком к мятежу против Годуновых. Пашкову и Болотникову недоставало решительности, которой обладал Корела. Они засылали в столицу лазутчиков с листами от «царя Дмитрия», но спровоцировать бунт не могли.
Василий Шуйский деятельно хлопотал о том, чтобы отвратить москвичей от Смуты. В октябре царь вспомнил о «Повести протопопа Терентия» и велел огласить ее «пред всеми государевыми князи, и бояре, и дворяны, и гостьми, и торговыми людьми…».
Протопоп пространно повествовал, как во сне явились ему Богородица и Христос. Богородица просила помиловать людей (москвичей). Христос обличал их «окаянные и студные дела». Пять дней по всей Москве звонили в колокола и не прекращались богослужения в церквах. Царь с патриархом и все люди «малии и велиции» ходили по церквам «с плачем и рыданием» и постились. Объявленный в городе пост должен был умиротворить бедноту, более всего страдавшую от дороговизны хлеба.
Поддержка церкви имела для Шуйского исключительное значение. Патриарх Гермоген вел настойчивую агитацию, обличая мертвого Растригу, рассылал по городам грамоты, предавал анафеме мятежников. Духовенство старалось прославить «чудеса» у гроба царевича Дмитрия.
Большое впечатление на простонародье оказали торжественные похороны Бориса Годунова и убитых по повелению самозванца членов его семьи. Тела были вырыты из могилы в ограде Варсонофьева монастыря и уложены в гробы. Бояре и монахи на руках пронесли по улицам столицы останки Годуновых. Царевна Ксения следовала за ними, причитая: «Ах, горе мне, одинокой сироте. Злодей, назвавшийся Дмитрием, обманщик, погубил моих родных, любимых отца, мать и брата, сам он в могиле, но и мертвый он терзает Русское царство, суди его, Боже!»
Читать дальше