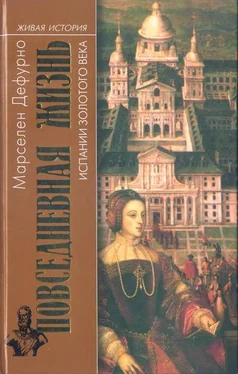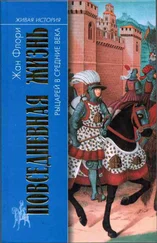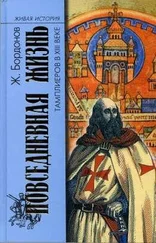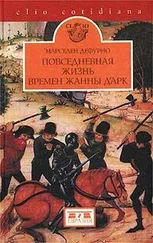«Честь, — говорится в кастильском кодексе „Партиды“ (XIII век), — это репутация, которую человек приобретает согласно занимаемому им месту в обществе благодаря своим подвигам или тем достоинствам, которые он проявляет… Убить человека или запятнать его репутацию — это одно и то же, ибо человек, утративший свою честь, хотя он со своей стороны и не совершал никаких ошибок, мертв с точки зрения достоинств и уважения в этом мире; и для него лучше умереть, чем продолжать жить» . {35} 35 Las Partidas , liv. II, titre XIII, loi IV.
В этих словах обозначена двойная концепция чести: выражение индивидуального достоинства, но и социальное достоинство, которое каждый рискует потерять из-за проступков другого.
Первый аспект чести тесно связан с личными качествами, и особенно с героизмом, ведь именно в атмосфере героизма жили испанцы в течение веков. Вслед за великой Реконкистой невиданные подвиги «конкистадоров» обеспечили Испании огромную империю за морями, в то время как испанские солдаты маршировали по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, от Португалии до Германии, а флот разгромил турок в сражении при Лепанто. Как же честь принадлежать к такой нации — нации завоевателей — могла не породить гордость? Лопе де Вега вложил в уста Гарсиа де Паредеса, одного из самых знаменитых участников Итальянских войн, примечательные слова:
Я Гарсиа де Паредес и еще…
Впрочем, довольно сказать: я испанец . {36} 36 La contienda de García de Paredes ; Valbuena Prat, La vida española en la Edad de Oro , p. 20.
Тем не менее еще большей честью является победить самого себя, суметь стать хозяином своей судьбы, которая может быть как благосклонной, так и наоборот. Это sosiego — внутреннее спокойствие, с которым герой встречает и удары судьбы, и радость триумфа, — проявил и Филипп II, бесстрастно выслушавший известие о разгроме Непобедимой армады; с другой стороны, кисть Веласкеса придает герою незабываемое пластическое выражение, рисуя Амбросио Спинолу в момент, когда он получает от своего сраженного соперника ключи от города Бреда и когда «он наклоняется к своему врагу и, едва заметным жестом, избавляет его от унижения стоять на коленях перед своим победителем». {37} 37 E. Lafuente Ferrari, Vélasquez (Skira), p. 60.
Подобное поведение может переходить в более утонченную форму гордости, когда красота поступка становится самоцелью и устраняет ценность действия как такового. О том впечатлении, которое родилось от такого формализма в испанской душе, нет более красноречивого свидетельства, чем рассказ об обстоятельствах смерти Дона Родриго Кальдерона и о его посмертной судьбе. Жертва принятия ответных мер против тех, кто скандально разбогател в царствование Филиппа III, Родриго Кальдерон, маркиз де Сиете Иглесиас был привлечен к судебной ответственности герцогом д’Оливаресом, фаворитом нового короля Филиппа IV. Его слишком быстрое восхождение по социальной лестнице, роскошь, которой он себя окружил, его гордость — все способствовало тому, чтобы он стал самым непопулярным человеком в королевстве, и потому в начале нового правления он был выбран в качестве козла отпущения. Собирались обвинения и свидетельства против него; к реальным злоупотреблениям и преступлениям, которые ставились ему в вину, добавлялись другие, надуманные, такие, как колдовство, которое всегда вызывало суровое порицание народа. Процесс был объектом пристального внимания; после вынесения смертного приговора на мадридской Плаза Майор был возведен эшафот. Мизансцена была разыграна таким образом, чтобы произвести впечатление на общественное мнение. Но Родриго Кальдерон подошел к эшафоту спокойный, полный презрения: «…он без волнения поднялся по ступенькам, грациозно накинув полу своего плаща на плечо, вплоть до этого страшного финала сохраняя дворянское достоинство и самообладание». И с этой минуты судебный процесс, преступления, презрение, все было забыто, все исчезло, изглаженное красотой поведения, и в целой Испании никто не встретил свою смерть столь элегантно, как это сделал Кальдерон. Более того, он стал чем-то вроде идола, реликвии которого оспаривают друг у друга — дело доходило до того, что люди дрались за кусочек материи, обагренной кровью Кальдерона… «Гордый, как Родриго, идущий на эшафот», — в Испании до сих пор в ходу эта поговорка, родившаяся 21 октября 1621 года, «в самый знаменитый день нашего века…» {38} 38 Письмо Андреса де Альманса и Мендоса, прокомментированное в: Ortega у Gasset, Papeles sobre Velásquez , pp. 204–206. О Родриго Кальдероне см. также: Marañon, El conde duque de Olivares , p. 50.
— как утверждал современник тех событий.
Читать дальше