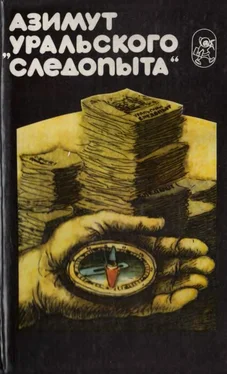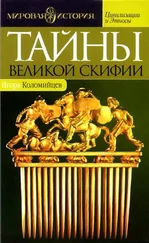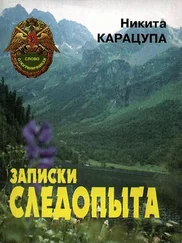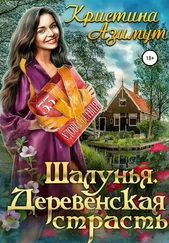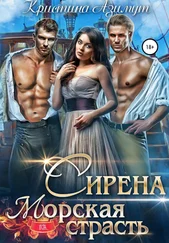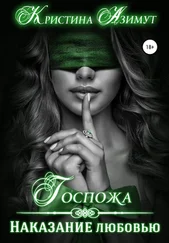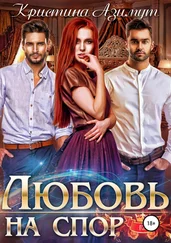Значит, не медь, а что-то другое интересовало Демидовых на Колывани? Знали ли они заранее об алтайском серебре или наткнулись на него в ходе медных разработок? Да, знали. Причем знал не только Акинфий, но и его отец Никита. Вспомним известное письмо, посланное Петром I из Персидского похода в августе 1722 года Никите Демидову:
«Демидыч! Я заехал зело в горячую сторону, велит ли бог видеться? Для чего посылаю тебе мою персону: лей больше пушкарских снарядов и обыскивай по обещанию серебряную руду».
Это письмо свидетельствует прежде всего об особых отношениях между царем Петром и Никитой Демидовым. «Персоной» — миниатюрным портретом царя, оправленным в золото и украшенным бриллиантами, Петр лично жаловал только за самые выдающиеся заслуги перед государством. Но здесь нас интересуют прежде всего последние слова: Демидов обещал царю найти серебряную руду. Подобными обещаниями, да еще самому Петру, первый Демидов никогда не бросался и если что-то обещал, то выполнял. Выполнял все, кроме обещания… найти серебро. Его Никита так и не нашел до самой своей смерти. Значит, на этот раз обещал просто так? Нет, не просто так. Никита и Акинфий давно знали, что в Сибири есть и серебро, и золото. Еще в 1715 году Демидыч в честь рождения царского сына подарил Петру древние золотые и серебряные изделия, найденные его рудознатцами в сибирских курганах. Знали Демидовы и еще кое-что.
Дело рудоискателя Степана Костылева
Оно хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве, в фонде Берг-коллегии, в одном из толстенных фолиантов, одетых в кожаный переплет, и, повествуя о приключениях, а чаще о злоключениях сибирского рудоискателя Степана Костылева, содержит кое-что об интересующем нас серебре.
Рудоискательство тех времен — это еще не наука, а скорее чародейство, требующее чутья, наблюдательности, особенных знаний, чтобы по едва заметным признакам — окраске горных пород, по запаху ветра в жаркий день, по травам и цветам, по ночным блуждающим огонькам от земных испарений и еще по чему-то неуловимому — определить присутствие руд. Здесь нужен особый дар да еще стойкий азарт, фатальная надежда на удачу. Без такого азарта и без такой надежды нет истинного рудоискателя, который может неделями, месяцами, а иногда и годами бродить безо всякого фарта в безлюдных местах и не потеряет желания к дальнейшим поискам.
Одним из таких рудоискателей и был сибирский крестьянин Степан Костылев. Заразился он однажды рудной охотой и с тех пор не знал покоя. И отправился Костылев со своим товарищем Федором Комаровым в Томский острог к коменданту Василию Козлову с челобитной и просил отпустить их руды искать. Но комендант, как позднее рассказывал Костылев, «челобитную их бросил наземь, нас не отпустил и грозил бить кнутом». Нарушил комендант царский указ: уж очень ему не хотелось лишних хлопот с этими рудами.
Но не отступились рудоискатели — охота пуще неволи. В 1718 году упрямый Степан Костылев с товарищами, «отлучаясь от домов своих», без комендантского разрешения ушли в горы к верховьям Иртыша и вернулись не с пустыми руками, а с кусками медной руды. Объявили о своей находке все тому же Василию Козлову. Комендант рудные куски забрал, но на том дело и кончилось. А настырный рудоискатель «не видя от оного (коменданта) никакого произведения», в 1720 году вновь отправился в горы, в междуречье Алея и Чарыша, на этот раз вместе с казачьим сыном Михаилом Волковым. И снова заявился в Томск с рудными образцами. Но к коменданту на этот раз не пошел, а закричал на площади: «Слово и дело государево!» Костылева и Волкова отправили в губернский Тобольск, а оттуда в Москву — в Преображенский приказ, а после допроса — в Берг-коллегию, где образцы руд испытали и нашли в них «признак медный». Рудоискателей отправили снова в Тобольск, а затем по указу губернатора вместе с рудоплавильным мастером Каменского завода Федором Инютиным послали на реку Алей для показания тех мест. Инютин вернулся из поездки с рудными образцами, которые при проверке оказались… пустой породой.
Но вскоре в Уктус, в горную канцелярию к капитану Василию Татищеву, недавно назначенному горным начальником Уральских заводов, поступил донос от Волкова, в котором тот сообщал, что Инютина на Алтае подкупили местные жители, промышлявшие серебряными самородками и не желавшие в местах своего промысла казенных разработок, а потому Инютин, получа 400 рублей, тех руд не осматривал и нарочно представил в тобольскую канцелярию дресву, то есть пустую породу.
Читать дальше