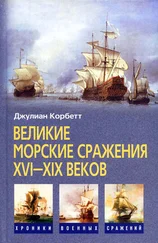По этому поводу от Китченера последовали распоряжения, основанные на его личных соображениях.
Уведомляя 20 февраля ген. Максвелла о необходимости подготовить австралийские и новозеландские войска к отправке в Дарданеллы, он сообщал, что транспорты прибудут в Александрию около 9 марта, и предписывал Максвеллу немедленно войти в связь с адм. Карденом на случай, если войска понадобятся раньше. Кроме того, он требовал, не ожидая прихода транспортов из Англии, собрать нужные пароходы на месте и тотчас же отправить часть войск на Лемнос.
В отношении транспортов адмиралтейство уже предприняло некоторые шаги. Шести пароходам, находившимся в водах Египта, были посланы распоряжения собраться к 27 февраля в Александрии и подготовить необходимое оборудование для посадки войск, причем разрешено, ввиду короткого перехода, принять войск на 50 % выше нормы. Одновременно были предприняты меры для сбора высадочных средств из расчета на 10 000 человек.
Ген. Максвелл, не теряя времени, вошел в телеграфную связь с адм. Карденом, в результате чего адмирал выразил пожелание, чтобы оконечность Галлипольского полуострова была занята войсками, как только будут разрушены внешние форты. Он полагал, что 10 000 человек могут быть высажены немедленно для занятия местности от линии Соганли — Дере и далее, через равнину Чанак, к побережью, шириной от берега до берега немного более пяти миль. План адм. Кардена, гарантируя от нового захвата противником фортов на галлипольской стороне, позволял завладеть береговыми торпедными батареями и отдавал в наши руки господствующую возвышенность Ачи-Баба.
Предположения адм. Кардена шли гораздо дальше того, что намечалось сухопутным генеральным штабом. Штаб считал, что занятие оконечности полуострова не является операцией, необходимой для разрешения первой задачи — разрушения фортов. Тем не менее Максвелл предложил, не откладывая, отправить одну австралийскую пехотную бригаду на присоединение к морской пехоте на Лемнос, и днем 23 февраля, т. е. за несколько часов до того, как выяснились предположения Кардена, отправка была окончательно решена.
Вместе с тем Максвелл приказал ген. Бердвуду отправиться в Дарданеллы и путем личных переговоров с Карденом детально выяснить вопрос участия сухопутных войск в овладении фортами.
Было совершенно очевидным, что в том положении, в котором остался вопрос о сухопутном содействии дарданельской операции после заседания 19 февраля, он оставаться не может, и 24 февраля, когда стали известны переговоры Кардена и Максвеллом, состоялось новое заседание военного совета. На этом заседании были сделаны серьезные попытки примирить противоречивые взгляды адмиралтейства и военного министерства. Спор неизбежно касался 29-й дивизии. Может казаться странным, что в то время, когда столько дивизий находилось на западном фронте, так много спорили и говорили о посылке одной. Но дело в том, что встретились два враждебных друг другу направления стратегического мышления. Могла бы эта дивизия способствовать успеху в Дарданеллах или нет — неизвестно, но, конечно, не от ее присутствия на западном фронте зависела победа или поражение во Франции. Посылка этой дивизии в Средиземное море означала отказ считать дарданельскую операцию диверсией и принципиальное признание Дарданелл вспомогательным наступательным театром. Фактически дело к этому и клонилось, хотя и незаметно. Условие Китченера и французов, что операция может быть в любой момент прекращена, исчезло. Это случилось, главным образом, благодаря тому, что отпала возможность действий на салоникском направлении и Дарданеллы оставались единственным местом, где можно было оказать давление на Балканские государства для окончательной изоляции центральных держав. Решение послать войска означало признание наших намерений прорваться даже и в том случае, если флоту не удастся самостоятельно выполнить задачу. Посылка 29-й дивизии означала признание важности успеха в Дарданеллах, стоящего известного риска на западном фронте, и оставление на неопределенное время надежды на наступление во Франции. 29-я дивизия служила яблоком раздора между двумя школами. Одна настаивала на том, что надо атаковать неприятеля в его слабом месте, где можно ожидать больших материальных и моральных успехов с меньшей затратой сил и средств, другая же — требовала посылки всех войск, до последнего солдата, на главный театр, где были сосредоточены главные силы врага. Для сторонников этого взгляда Франция являлась «решающим» театром, с чем сторонники первой школы согласиться не могли.
Читать дальше
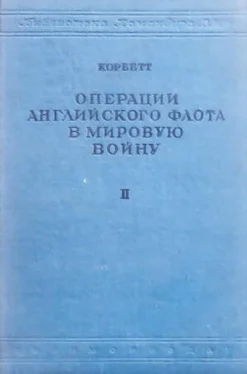

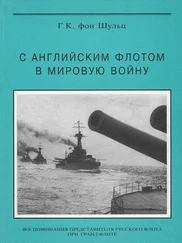

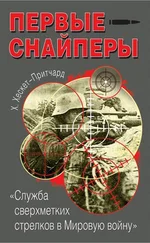
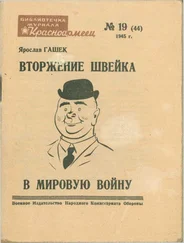
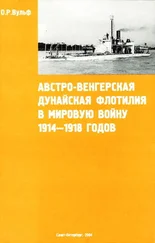
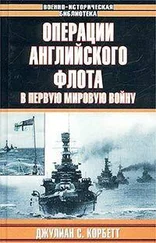
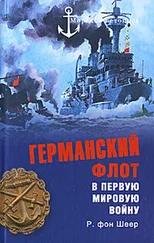

![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Вече (2011 г.)]](/books/416093/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)
![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Эксмо (2002 г.)]](/books/416374/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)