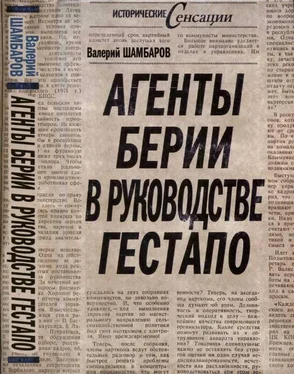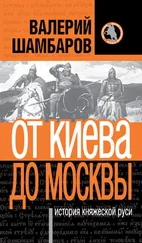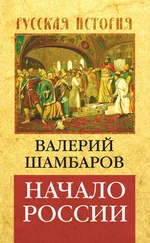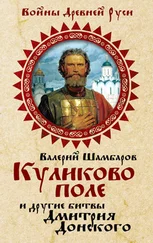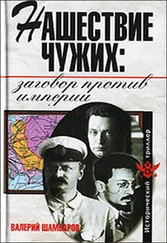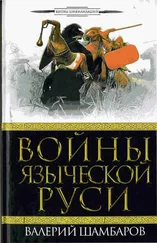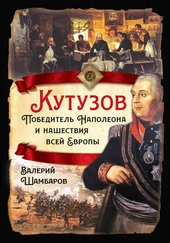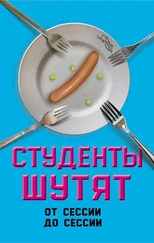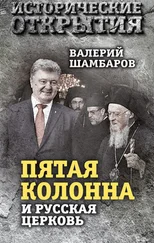Как уже отмечалось, после разрыва с Германией Советский Союз переориентировался на сближение с Францией и Англией. Но очень быстро был разочарован. За несколько лет попытки политических и военных контактов почти не продвинулись, оставшись на декларативном уровне. В отличие от немцев, у которых слово обычно не расходилось с делом, с французами и англичанами шли бесконечные переливания из пустого в порожнее, позиция того или иного должностного лица не значила практически ничего, а любые достигнутые договоренности поминутно могли измениться в зависимости от правительственной, парламентской конъюнктуры и других мелочных соображений.
Англия вообще не желала идти на сближение, явно делая ставку на Гитлера. Франция колебалась: с одной стороны, ей было заманчиво иметь в лице России противовес Германии, а с другой, она не решалась противоречить англичанам. Французские офицеры и генералы стали вместо немецких появляться в советских дивизиях, проходить стажировку, обмениваться делегациями, но вся «дружба» ограничивалась взаимными любезностями и тостами на банкетах. А французские политики двурушничали, прикидывая, что союз с Россией, конечно выгоден, но еще выгоднее, если, например, эта союзница подерется с немцами одна, без Франции. Последовательной выглядела лишь позиция Чехословакии, которая панически боялась усиливающейся Германии и выступила сторонницей создания «оси» Париж — Москва — Прага. Однако «вес» Чехословакии на международной арене был ничтожным.
Между тем в советском руководстве сидели далеко не дураки. Видели, как антисоветизм Гитлера способствует попустительству Запада к немцам. Но видели и другое. После ремилитаризации Рейнской области достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять: против СССР Германия смогла бы воевать только в союзе с Польшей или Чехословакией — что было весьма сомнительно из-за их антагонизма. Либо в случае, если Запад предаст своих польских и чешских союзников (как оно и случилось). А вот пути для удара на Запад были уже открыты…
Поступали и данные разведки, что антисоветизм нацистов может иметь не только идейную, но и чисто практическую сторону, нацеленную на обман англичан и французов. И уже в 1935 г. Тухачевский в одной из своих публикаций довольно точно обрисовал ближайшие стратегические цели фюрера: «Гитлер пытается успокоить Францию… Гитлер усыпляет Францию, ибо он не хочет давать повод к росту французских вооружений… Антисоветское острие является удобной ширмой для прикрытия реваншистских планов на западе (Бельгия, Франция) и на юге (Познань, Чехословакия, аншлюс)».
Но если Тухачевский пытался такими разъяснениями подтолкнуть французов к более активному сотрудничеству — чего не получилось, то Сталин, убедившись в неискренности Запада, сделал другие выводы. И НКВД начал беспрецедентную операцию, которую заодно решили связать с намечавшимися «чистками» в самой советской верхушке. Исполнителем явился агент «Фермер» — Скоблин. Через него к Гейдриху были запущены материалы, что маршал Тухачевский совместно с рядом офицеров германского генштаба составил заговор с целью свержения Сталина.
Янке, один из лучших экспертов немецкой разведки, сразу отметил, что располагает данными о связях Плевицкой с советскими спецслужбами, а значит, и материал о Тухачевском сфабрикован ими же. Сфабрикован с двоякой целью — либо для того, чтобы вызвать у Гитлера недоверие к своему генштабу, либо — чтобы компромат на Тухачевского поступил в СССР извне. Однако такая оценка вызвал лишь крайнее недовольство Гейдриха, который даже посадил Янке на три месяца под домашний арест. Шеф полиции безопасности и СД счел, что он покрывает закулисные интриги своих генштабовских дружков. Сам же Гейдрих в подлинность материалов Скоблина поверил и доложил о них фюреру.
Любопытно, что некоторые западные историки до сих пор выражают сомнения, что акция с компроматом на маршала разыгралась по советскому сценарию. Так, И. Пфафф писал: «Если бы Сталин действительно сам хотел устранить Тухачевского, то ему не потребовалось бы выбирать такой сложный и рискованный путь. В условиях нарастания репрессий можно было бы найти материалы для обвинения маршала значительно проще, прямым путем в Советском Союзе, при этом И. В. Сталин весь ход дела держал бы под своим непосредственным контролем». Да, действительно. Большинство обвиняемых, проходивших по одному делу с маршалом, было арестовано еще раньше, в августе 1936 г. А имя Тухачевского уже прозвучало на процессе в январе 1937 г., когда судили Радека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу