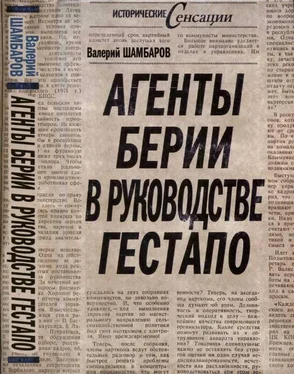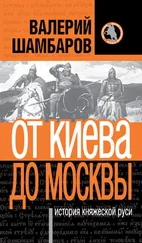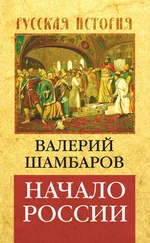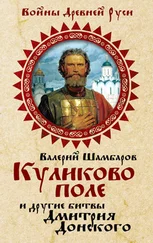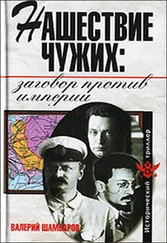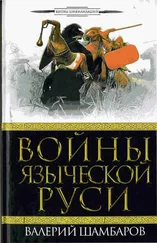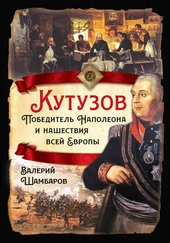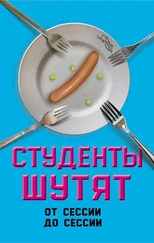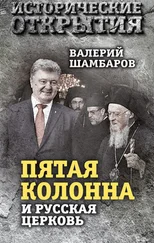Со складов рейхсвера подобные группировки нередко доставали оружие — не по указаниям правительства и командования, а через личные связи. Все равно по условиям Версаля излишки вооружения требовалось выдать победителям. И офицеры, заведовавшие складами, когда к ним обращались бывшие сослуживцы, махали рукой — не лучше ли «своим» отдать? А Немецкая рабочая партия в это время наводила контакты со всеми близкими ей группами, партиями, организациями. Так что нацисты на первых порах своего существования были собственно не «партией», а «движением». Впрочем, именно так они себя и называли.
Безрадостный процесс принудительных демобилизаций напрямую коснулся и Генриха Мюллера. В период массовых сокращений вооруженных сил некоторым офицерам удавалось остаться или задержаться в армии — они использовали связи и знакомства, переводились в воинские части и штабы, которые не должны были расформировываться. У Мюллера, несмотря на его боевые отличия и летное мастерство, таких шансов не было. Но и в отчаяние он не впал. И в политику не полез — это было слишком зыбко, ненадежно. Мы не знаем, что он переживал, сдавая на слом свой заслуженный бомбардировщик. Но после этого Мюллер мобилизовал все свое упорство, весь свой «капитал», и пошел искать работу. А его «капиталом» были молодость, выносливость, трудолюбие, прекрасные характеристики, чин вицефельдфебеля и высокие награды.
Очевидно, это и выделило его из массы других безработных. 1 декабря 1919 года он был принят на службу в баварскую полицию. В описываемое время получить такую работу было редкостной, поистине чрезвычайной удачей. Ведь и для других отставных военных полиция являлась очень привлекательным местом трудоустройства. Для вчерашних офицеров, унтер-офицеров это было самое подходящее поле приложения сил, так что конкурс был ой-ей-ей какой. Но Мюллер сумел показать себя и зацепиться на полицейском поприще. Естественно, взяли его всего лишь рядовым агентом. Куда же еще без образования, без опыта? То есть пришлось участвовать в облавах по грязным притонам. Пришлось возиться с найденными трупами, сбивать ноги и отмеривать километры в слежках, мерзнуть и мокнуть в засадах, по приказу комиссара обходить улицы и дома в поисках свидетелей преступлений… Но Мюллер не роптал, не кочевряжился, выполнял все задания с обычным своим старанием и трудолюбием. Теперь у него была работа, был твердый заработок и уверенность в будущем. Полиция — она всегда потребуется, всегда нужна будет, при любых правительствах!
Не исключено, кстати, что Мюллер тоже успел «познакомиться» с капитаном Ремом. Хотя и со своей, полицейской стороны. Поскольку правоохранительные органы держали под надзором злачные места Мюнхена, а Рем был постоянным клиентом клуба «Эльдорадо», где собирались гомосексуалисты. Но данный притон считался заведением «высокого класса», публика там тусовалась только «избранная», поэтому облав там не проводилось, и до конфликтов с полицией дело у Рема никогда не доходило.
Но оставим на время нашего героя, проходящего нелегкую полицейскую науку, перенимающего у ветеранов правоохранительных органов ее тонкости и хитрости. И коснемся еще одного вопроса, немаловажного для нашей темы. Уже после Второй мировой войны в массовом сознании (и исторической литературе) сложился довольно нелепый стереотип постоянного антагонизма между СССР и Германией, нацизмом и коммунизмом. И в свете таких представлений, например, последующий пакт Молотова — Риббентропа или сотрудничество Мюллера с советской разведкой выглядят дико и неожиданно. На самом же деле все обстояло как раз наоборот. Сотрудничество большевиков с немцами было не отклонением от правила, а постоянной тенденцией. Они и к власти-то пришли при поддержке германских спецслужб, на деньги, переводимые через германские банки.
И если в конце 1918-го— начале 1919 г. «дружба» нарушилась попыткой Советского правительства раздуть и поддержать революцию в Германии, то уже вскоре ситуация изменилась. После того как Антанта ошарашила немцев условиями Версальского мира, многие германские влиятельные круги стали видеть в Советской России потенциального друга и союзника, снова начали прощупывать пути к сближению. Это проявилось даже в ситуации с арестованным Карлом Радеком. Поначалу его держали в Моабите в строгой изоляции, подвергали допросам. Но сразу после Версаля условия его заключения резко улучшились. Он получил хорошую камеру, стал принимать посетителей. Причем не абы каких посетителей, его камеру называли «политическим салоном Радека», поскольку к нему заглядывали и представители политических партий, и деловых кругов, и рейхсвера. А потом его и вовсе выпустили.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу