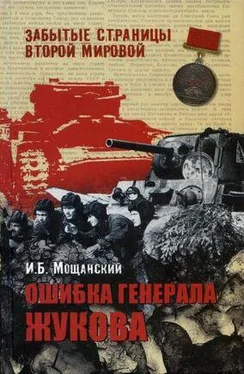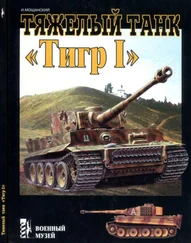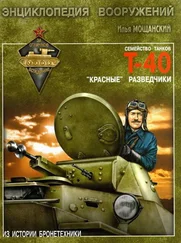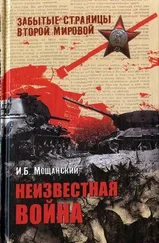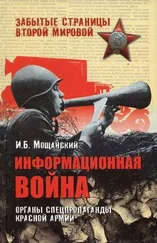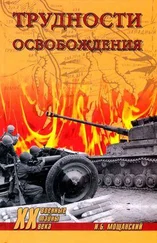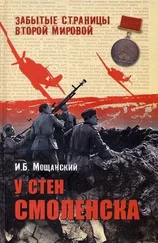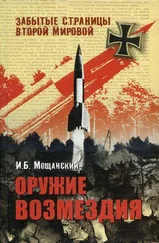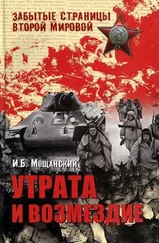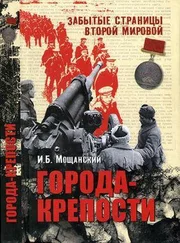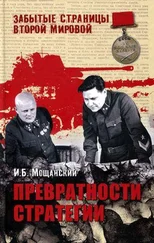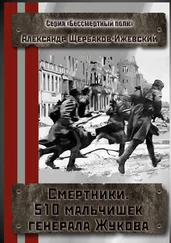Яростно сопротивляясь, германские войска не позволили соединениям правого фланга и центра 33-й армии продвинуться к западу от Наро-Фоминска. Три дня и три ночи пять стрелковых дивизий 33-й и 43-й армий вели исключительные по ожесточенности уличные бои, прежде чем смогли очистить от врага Боровск, прикрывавший с юга подступы к Минской автостраде. Произошло это 4 января, а в последующие четыре дня смежные соединения этих же армий продвинулись еще на 10–25 км, но из-за упорного сопротивления и мощных контратак частей 20-го и подошедших к ним на помощь соединений 7-го и 9-го армейских корпусов противника вынуждены были остановиться.
К 7 января 1942 года контрнаступление Красной Армии завершилось.
Итак, в декабре 1941 года под Москвой произошло знаменательнейшее событие: впервые во Второй мировой войне войска Красной Армии остановили, а затем нанесли крупное поражение дотоле считавшей себя непобедимой германской армии и, отбросив ее от Москвы на 100–250 км, сняли угрозу советской столице и Московскому промышленному району. Успех этот был бесспорным и чрезвычайно важным, а его значение вышло далеко за рамки чисто военной задачи.
Ведь именно под Москвой немцы не только утратили стратегическую инициативу и познали горечь поражения, но, и это главное, они проиграли свою «молниеносную войну» против Советского Союза. Крах стратегии блицкрига поставил Третий рейх перед перспективой длительной, затяжной войны. Такая война потребовала от его руководства перестройки плана «Барбаросса», нового стратегического планирования на последующие годы и дополнительного изыскания огромных материальных ресурсов. К затяжной войне Германия была не готова. Для ее ведения требовалось радикальным образом перестроить экономику страны, свою внутреннюю и внешнюю политику, не говоря уже о стратегии.
В связи с этим определенный интерес представляет ретроспективный взгляд высокопоставленных немецких генералов на происшедшие под Москвой события. Так, во время допроса в Бад-Мондорфе в июне 1945 года фельдмаршал Кейтель заявил, что после Московской битвы не представлял себе «военного решения» всей Восточной кампании. Поражение под Москвой генерал Гальдер назвал «катастрофой» и «началом трагедии на Востоке», а бывший начальник штаба 2-й армии генерал Блюментрит — «поворотным пунктом» кампании в России. Бывший командир 47-го моторизованного корпуса генерал Р. Бамлер утверждал, что «отступление 1941–1942 гг. было исходным пунктом большого военного кризиса, от которого немецкая армия ни материально, ни морально так и не смогла оправиться» [117] Цит. по: Безыменский Л. А. Укрощение «Тайфуна». М., 1987, с. 195, 196.
. А адъютант Гитлера фон Белов в своих воспоминаниях события под Москвой отнес к «великому перелому в ходе Второй мировой войны» [118] Below N. Als Hittlers Adjutant 1937–1945. Mainz. 1980, s. 300.
.
Поражение под Москвой измерялось и другими критериями. «Разбит миф о непобедимости немецкой армии, — писал Гальдер. — С наступлением лета немецкая армия добьется в России новых побед, но это уже не восстановит миф о ее непобедимости. Поэтому 6 декабря 1941 года можно считать поворотным моментом, причем одним из самых роковых моментов в краткой истории Третьего рейха. Сила и могущество Гитлера достигли своего апогея, начиная с этого момента они пошли на убыль» [119] Цит. по: Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: Пер. с англ. М., 1991, т. 2, с. 254–255.
.
Как видим, немцы резонно считают, что для Германии перелом в войне начался под Москвой. Но в противоборстве двух государств не может быть такого положения, при котором успех или крупное поражение одной стороны не оказал бы соразмерного влияния на процесс самой борьбы. Иначе говоря, если усилиями Красной Армии вермахт оказался в тяжелом кризисе, который перечеркнул планы и надежды руководства Германии на победный финал, то почему это обстоятельство должно касаться только Третьего рейха, а не войны в целом? Поэтому правомерно утверждать, что под Москвой начался перелом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. Причем совершенно несущественным является вопрос, следует ли этот процесс относить к началу «коренного перелома», «великого перелома», «коренного» или, как считал маршал Жуков, «крутого поворота» в войне. Определения «коренной», «великий» и «крутой» здесь добавлялись для большей выразительности, а в терминах «перелом» и «поворот» нет какого-то смыслового различия. Важно лишь то, что победа Красной Армии под Москвой положила начало перелому в ходе самой войны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу