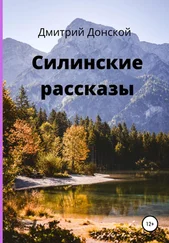Похоже, на пути своём в Кострому Дмитрий Иванович Москву не навестил, а только разослал окрестным волостям приказ: прятать скотину в леса, а людей отводить под защиту кремлёвских стен. Кремль, знал он, неприступен. Кремль выдержит, а он сам до поры выждет, как выждет с другого боку братан Владимир, ушедший сейчас под Волоколамск с большей частью войска.
Выждать — не то же, что скрыться. Стоит обратить внимание на следующую, судя по всему, продуманную расстановку русской боевой силы: Дмитрий в Костроме имел при себе только две тысячи воинов, Владимир уже придал вчетверо больше. Почему? Да потому, что северо-запад Московского княжества уязвимее. Ордынцы, не добившись Москвы, именно в этом направлении могут кинуться, чтобы с Литвой сообщиться либо с ненадёжной Тверью.
Тохтамыш идёт на Москву наспех — так в своё время дважды подходил к её стенам покойный Ольгерд. Хан не решится на длительную осаду — осень на дворе. К тому же московский посад — опыт Литовщины пригодился — сожжён заранее. В пустых волостных сёлах ордынцы прокорма не найдут, а с собой достаточных припасов не имеют. Зная же о двух княжеских ратях, скапливающихся слева и справа от Москвы, хан вынужден будет вести себя осмотрительней и вряд ли посмеет погромить малые подмосковные города.
Если удастся встретить Тохтамыша таким вот образом, то великий князь сбережёт людей, и это главное. Для этого не стыдно «трусом» себя показать, робеющим открытого ратного столкновения.
Но всё получилось вопреки великокняжеской прикидке. И потому лишь, что на сей раз подвела его Москва.
Тохтамыш переправился через Оку и захватил опустевший Серпухов, когда в Москве начались беспорядки. За последние дни её население возросло по крайней мере вдвое. В Кремль перебрались не только обитатели посадов, но и крестьянство подмосковных волостей. Все были возбуждены до предела: кто молился истово, кто радовался тому, что такое множество собралось для отпора, а кто и пошумливать начинал: князья где* где воеводы, на кого покинут народ?
Неизвестно, какие бояре были оставлены великим князем на московское воеводство, но они явно не справились с поручением. Стихия безначалия бражилась среди горожан и беженцев, кое от кого и впрямь попахивало хмельным — медов на ту пору уже было накачано и наварено от нынешнего сбора и в подвалах запасено.
В Кремле находился тогда митрополит Киприан. Но он был тут лицом новым; те, кто знал его, говаривали о нём по-разному, а многие и совсем не знали. Так что его вразумления на толпу не очень-то действовали. Кто и ерничал: откуда, мол, сей Куприян, из каковских стран?
Нетрезвое это дурашество обернулось открытым озлоблением, когда прослышали, что митрополит хочет покинуть Москву, как уже покинул её кое-кто из обитателей боярских дворов. Киприан и впрямь настаивал, чтобы его выпустили из города, готовящегося к осаде. К нему решила присоединиться и великая княгиня с детьми. Такой Москвы она ещё не знала и не на шутку была напугана всем увиденным и услышанным в последние дни.
Но среди горожан уже действовал уговор: никого из крепости не выпускать. Ворота железные держали на запоре. Стража бодрствовала у проездных башен. А в тех, кто всё же норовил прорваться, с вратных площадок швыряли чем ни попадя.
Киприану понадобилось всё его умение убеждать, доказывать, угрожать, пока наконец он вместе с великокняжеским семейством не был выпущен. Из Москвы митрополит направился в Тверь, Евдокия с детьми — к мужу в Кострому.
Известно, что накануне появления у стен Москвы Тохтамыша в Кремль въехал «некоторый князь Литовский, именем Остей, внук Ольгердов», и благодаря ему удалось поначалу наладить правильную оборону города. Известие это несколько загадочно. Кажется, ни в русских летописях, ни в литовских хрониках подобное княжеское имя более не встречается.
Чьим сыном мог быть этот Остей — Андрея Полоцкого или Дмитрия Брянского, или ещё кого-нибудь из старших Ольгердовичей? Впрочем, не легенда ли само «призывание» чужого князя к безначальному народу в неуправный город? В русских летописях известен один-единственный Остей — московский боярин Александр Андреевич, младший брат Фёдора Андреевича Свибла, но вряд ли речь здесь идёт о нём.
Итак, в Москве утвердилось некое подобие порядка, и её жители, постоянные и пришлые, изготовились к обороне.
Ордынцы появились у стен Кремля 23 августа после полудня. Подошли они с напольной стороны и стали в благоразумном отдалении, «за три стрел ища от града» — уточняет свидетель, то есть на расстоянии трёх полётов стрелы. Вскоре малый отряд вершников приблизился к стенам, окликнули стоящих на забралах:
Читать дальше
![Юрий Лощиц Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.] обложка книги](/books/195967/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3-cover.webp)
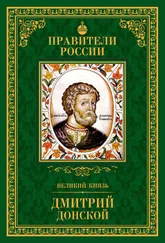

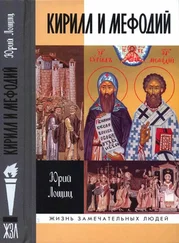



![Виталий Останин - Князь Благовещенский [СИ с изд. обложкой]](/books/427875/vitalij-ostanin-knyaz-blagovechenskij-si-s-izd-ob-thumb.webp)