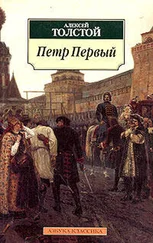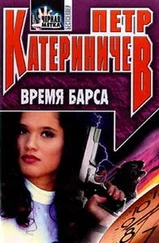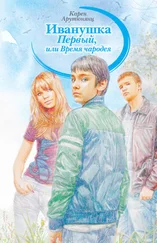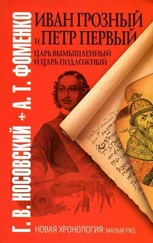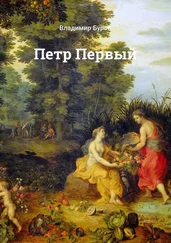Дело, однако, было не только в недостаточной подготовленности соратников, но и в характере царя — его обыкновении «влезать» самому во все мелочи, в результате чего подавлялась инициатива его ближайших помощников. Личное управление оборачивалось безынициативностью — соратники ждали по каждому поводу указаний и повелений. Эту особенность петровского правления Пушкин выразил в словах: «Все дрожало, все безмолвно повиновалось».
В составленном в 1718 г. указе Петр писал, что, несмотря на «свои несносные труды в сей тяжкой войне», он находил время для обучения людей военному делу и составления «Устава воинского». Войско приведено в «добрый порядок», плоды этого «доброго порядка» известны всем — русская армия сокрушила одну из лучших в Европе. «Ныне, управя оное, и о земском правлении не пренебрег, но трудится и сие в такой же порядок привесть, как и воинское дело».
Одним из средств достижения «доброго порядка» были рационально организованные государственные учреждения. Первые практические шаги в этом направлении Петр предпринял, как было отмечено выше, еще в начале 1712 г., издав указ об организации коллегии для торговли, «чтоб оную в лутчее состояние привесть». Новому учреждению царь дал иностранное название, но оно не вносило ничего нового в принципы организации центрального аппарата. Понадобилось еще несколько лет, чтобы мысль о замене старинных приказов коллегиями приобрела четкую форму.
Сразу же после возвращения из-за границы Петр возобновил прерванную работу. Находясь в Петербурге, он познакомился с переведенными на русский язык регламентами центральных учреждений Дании, Швеции и других государств. Накануне отъезда в Москву в декабре 1717 г. царь составил ряд указов, поставивших дело организации коллегий на практические рельсы: он определил число коллегий, назначил в каждую из них президентов и вице-президентов и установил срок, когда новые учреждения должны были приступить к работе. Срок был жестким — «з будущего года», т. е. с 1718 г.
Но прошло полгода, и царю пришлось не без горечи отметить безрадостный факт: возвратившись в марте в столицу из Москвы, он обнаружил, что «в некоторых немного, а в иных — ничего» не сделано. Последовал указ, требовавший от президентов более энергичных действий.
Настойчивость царя не принесла ожидаемых плодов — дело подвигалось настолько медленно, что истек и 1718 г., а коллегии не приступили к работе.
Почему Петр проявлял столь пристальное внимание к организации новых учреждений, какими соображениями он руководствовался, когда требовал от соратников большего усердия в создании коллегий?
Царь, как и его ученые современники из стран Западной Европы, исходил из мысли, что все беды в обществе проистекали не от несправедливо устроенной его социальной структуры, а от несовершенной структуры государственного аппарата. Стоило его организовать на разумных началах, как все изменится к лучшему и в стране наступит время всеобщего благоденствия.
Послушаем, какой совет Петру на этот счет давал крупный немецкий ученый Лейбниц: «Опыт достаточно показал, что государство можно привести в цветущее состояние только посредством учреждения хороших коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы».
Петр полагал, что ради «счастливых часов» стоило потрудиться, не жалея сил, и, уверовав в эту идею, убеждал всех, что коллегии вводятся «ради порядочного управления» государственными делами, «поправления полезной юстиции и полиции», содержания «в добром состоянии» сухопутных и военно-морских сил, «умножения и приращения коммерции, рудокопных заводов и мани-фактур».
Из царских указов можно составить представление о том, какими преимуществами, по его мнению, обладали коллегии. Одно из них состояло в том, что у президента коллегии было меньше условий и возможностей для произвола, чем у руководителей приказов. В коллегиях, рассуждал царь, «президент не может без соизволения товарищев своих ничего учинить», в то время «как старые судьи делали, что хотели».
Другое преимущество коллегий состояло в том, что «истину» легче установить при обсуждении какого-либо вопроса многими лицами. В этом случае «что един не постигнет, то постигнет другой». Коллегиально принятые решения, кроме того, будут иметь больший авторитет, чем решения единоличные.
Читать дальше