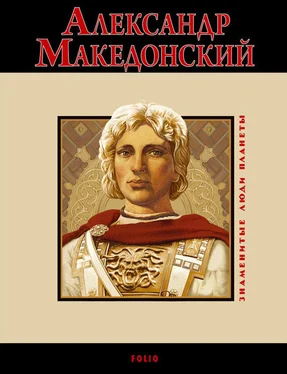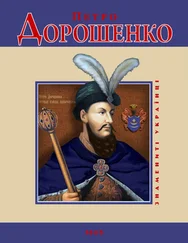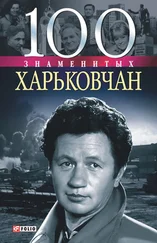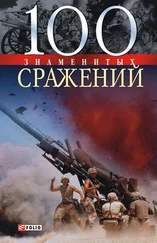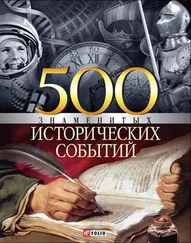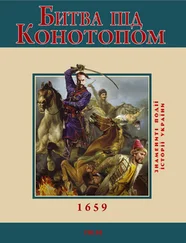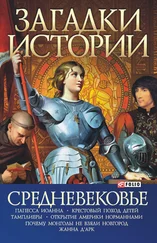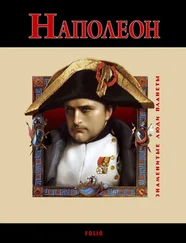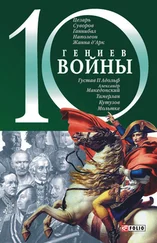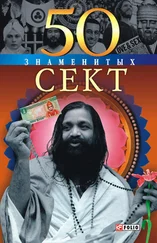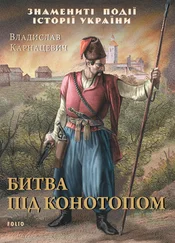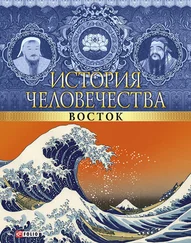В середине лета 325 года до н. э. отряды македонцев соединились на юге, в дельте Инда. Армия Александра разделилась на две части: одну повел по суше, через Гедросию (Белуджистан), сам царь, другая на кораблях вдоль побережья по Индийскому океану направилась к устью реки Евфрат – этой флотилией командовал Неарх. Перед выходом кораблей в дальний путь Александр бросил в море золотые чаши, умоляя Посейдона дать возможность флоту счастливо добраться до устья Тигра и Евфрата. Делал он это по «велению своего отца Аммона».
Индия так и не стала полноценной частью империи Александра. Очень скоро после возвращения монарха оттуда стали поступать сведения о неповиновении отдельных правителей и племен. Македонский царь уже не мог и не успел исправить положение. Однако пребывание такой массы людей в «сказочной» Индии познакомило представителей эллинистической цивилизации с этой страной гораздо ближе. Помимо новых географических, зоологических, этнографических сведений, были получены данные и об индийской философии. Источники передают подробности встречи македонян с представителями своеобразной секты обнаженных мудрецов – гимнософистов, – вероятно, представителей джайнизма. К ним был отправлен для беседы киник Онесикрит из свиты Александра. Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке. Мудрецы передавали царю, что следует совершать добро обществу… Один же из них – Калан – даже присоединился к лагерю македонского царя. Предание рассказывает о том, что однажды он расстелил перед царем иссохшую шкуру: философ сначала ступил на один ее край, потом на другой – противоположные края, естественно, поочередно поднимались. Затем Калан встал на середину, а вся шкура осталась лежать на земле. Таким образом мудрец якобы хотел показать Александру, что тому следует устроить столицу в центре своей державы. Еще большего эффекта Калан достиг своим показательным самосожжением, когда заболел. Взойдя на костер, мудрец не проронил ни звука…
* * *
Редко какое военное мероприятие проходило для Александра с таким трудом, как переход через пустынную Гедросию. Этот поход едва не уничтожил всю македонскую армию, по некоторым оценкам – почти три ее четверти. Страшно палило солнце. Быстро таяли запасы воды, а пополнить их не удавалось. Местные жители добывали ее, выкапывая небольшие ямы, и вода там была не вполне пресная – напоить несколько тысяч человек таким образом было невозможно. Не лучше дело обстояло с хлебом. Охранников продовольственных тюков, которые не удержались и взломали на них царские печати, Александр даже не решился наказать. Однажды он демонстративно вылил на песок поданную ему воду, чтобы показать, что он во всем готов разделить судьбу своих солдат. Обеспечить сеть баз для флота Неарха вдоль побережья Александру, по большому счету, не удалось. Дисциплина упала, возникали все новые бунты. Для поддержания настроения в войсках царь организовывал массовые попойки, что способствовало еще большему разложению армии.
Всем окрестным сатрапам царь разослал приказы обеспечить доставку хлеба к границам пустыни, что позволило спасти часть солдат. Правда, уже далеко не все из них подчинялись великому завоевателю. Слишком пестрым оказался этнический состав его империи, и долго держаться на уважении и страхе лично перед ним она не могла. Например, была охвачена восстанием Бактрия, где зачинщиками беспорядков выступили поселенные тут Александром греки. В конце концов они отправились домой в Элладу, а местные сатрапы не решились подавить восстание силой оружия.
Добравшись до области Кармания, царь нанес очередной удар по знати – теперь уже по новой, созданной во многом его же руками. Жертвами стали сатрапы и военачальники, на произвол которых жаловалось местное население, – Стасанор, сатрап областей ариев и зарангов, Фарасман, сын Фратаферна, сатрапа Парфии и Гиркании, а также македонские военачальники из Мидии Клеандр, Ситалк и Геракон. Последние в свое время помогли Александру расправиться с Парменионом и Филотой, а теперь сами превратились в обвиняемых. Царь приказал казнить провинившихся вельмож и командиров. Один раз встав на путь репрессий, он уже не мог с него сойти, укрепляя абсолютизм в качестве основы государственного строя своей державы.
В конце 325 года до н. э. остатки македонской армии все же пришли в Вавилон. Корабли же Неарха постигла более счастливая судьба. Он вышел из дельты Инда со ста пятьюдесятью судами, на которых находилось около пяти тысяч человек самых разных национальностей. Флотилия шла исключительно вдоль побережья, не выходя в открытый океан. Неарх скрупулезно заносил в свой дневник все подробности путешествия, наносил на карту все новые и новые скалы, острова, мысы, течения. Его записки стали ценнейшим историческим источником. Помимо географических подробностей, флотоводец давал характеристику племенам, с которыми пришлось столкнуться его людям. Большое впечатление на моряков Неарха произвело, например, знакомство с жителями устья реки Томер, которые еще не знали металла и вообще находились на довольно ранней стадии развития первобытного общества. Настоящим шоком стало столкновение с несколькими китами, которых корабли атаковали, построившись в боевые порядки. Где-то в Кармании разведчики Неарха, посланные им в глубь материка, встретились с передовыми отрядами Александра. Велика же была радость царя, узнавшего, что его флот цел и, более того, идет в правильном направлении. Александр и Неарх соединились в Сузах в 324 году до н. э. Надежды царя на открытие постоянного судоходства из Аравии в Индию, к сожалению, не оправдались. Регулярные плавания стали возможны, когда корабли стали ходить не вдоль побережья, а выходить в открытое море, где было меньше подводных препятствий и где имелась возможность использовать муссонные ветра.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу