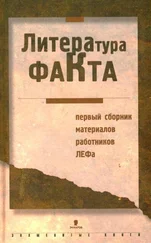Ни одна из делегаций стран — учредителей МВТ не использовала создаваемые защитой щекотливые ситуации, чтобы представить политику правительств союзных стран в неблагоприятном свете. Так было, когда поднимались вопросы мюнхенской . эпопеи, советско-германского пакта, Катынского депа и др. Тем не менее полностью избежать их обсуждения на процессе обвинению не удалось.
Взаимодействие и поддержка обвинителями друг друга особенно зримо проявились при обсуждении пакта Риббентропа — Мопотова от 23 августа 1939 г. и секретного протокола к нему. Защитник Р. Гесса А. Зейдпь представил суду аффидевит бывшего начальника юридического отдела германского МИДа Фр. Гауса, сопровождавшего своего министра в Москву в августе 1939 г., с описанием хода переговоров и изложением текста секретного протокола . Р. Руденко, не имея перевода аффидевита, не воспротивился его представлению Трибуналу в качестве доказательства защиты. Зейдль попытался предъявить и копию текста секретного протокола, однако отказался сообщить, от кого он ее получил. В результате Трибунал запретил оглашать текст этого документа и последовательно придерживался данной позиции. Тем не менее вопрос о секретном протоколе вставал при допросе вызванного Зейдлем статс-секретаря германского МИДа Э. Вейцзе-кера, при даче показаний Риббентропом и др.
Поскольку защита не прекращала усилий включить в число доказательств текст секретного протокола, Комитет обвинителей 1 июня 1946 г. обратился к Трибуналу с совместным посланием. В нем указывалось не только на «дефектность» документа, который Зейдль намеревался представить суду, но и на необходимость противостоять принятой защитой тактике отвлечения внимания Трибунала с выяснения личной вины подсудимых на исследование действий государств, создавших Трибунал. Лишь через 50 лет среди бумаг Сталина были обнаружены и представлены на суд общественности подлинные тексты секретных протоколов к советско-германским договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г. [11] См.: Документы внешней политики. 1939 г. Т. XXII. Кн. 1. М., 1992. С. 630—632; кн. 2. М., 1992. С. 134—135.
.
Другим камнем преткновения для советской стороны в Нюрнберге стал Катынский вопрос. Несмотря на предостережение Р. Джексона, советское обвинение настояло на включении в Обвинительное заключение тезиса об ответственности гитлеровцев за расстрел польских офицеров в Катынском лесу. Советские представители в Нюрнберге и сталинское руководство были уверены, что застрахованы от неожиданностей — ведь в соответствии со ст. 21 Устава Трибунал был обязан принимать без доказательства доклады правительственных комиссий по расследованию злодеяний гитлеровцев. Именно таким документом и являлся доклад Комиссии Н.Н. Бурденко, обвинявший германские власти в расстреле 11 тыс. польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу. Однако по настоянию защитника Геринга О. Штамера МВТ все же разрешил вызвать по три свидетеля от обвинения и защиты [12] См. подробнее: Лебедева Н.С. Катынь: преступление против человечества. М., 1994. Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. М., 1983. С. 91. См. с. 531 настоящего тома.
(в данном томе впервые на русском языке публикуются пассажи защитников, касающиеся секретных протоколов и катынского преступления сталинского руководства, которые изымались из всех советских изданий материалов Нюрнбергского процесса).
Одним из методов защиты было затягивание процесса до бесконечности в надежде, что начавшаяся «холодная война» приведет к раскопу в стане недавних союзников. Она надеялась на возникновение такой трещины в отношениях между союзниками, в которую «мог бы провалиться весь Нюрнбергский процесс».
Однако эти надежды оказались напрасными. Заключительные речи главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции отличались единодушием, которое не смогла поколебать набиравшая обороты конфронтация между двумя мировыми системами. Оценка деяний лиц и фактов, вопросы соответствия нюрнбергских принципов нормам международного права и морали, требование сурово покарать главных военных преступников «третьего рейха» звучали в унисон в заключительных речах четырех главных обвинителей. Они не только опровергли аргументы защиты о несоответствии норм Устава международному праву, неосведомленности и непричастности их подзащитных к преступлениям нацистского режима, но и вновь убедительно и ярко создали образ величайшего из зол нашего времени — фашизма. Главные обвинители вскрыли внутренний механизм фашистской диктатуры, основу которого составляла национал-социалистская партия и ее полувоенные организации, показали разрушительные последствия тоталитарной системы гитлеризма.
Читать дальше