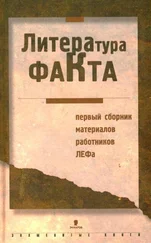Лебедева Н.С. Array - Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)
Здесь есть возможность читать онлайн «Лебедева Н.С. Array - Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1999, ISBN: 1999, Издательство: Юридическая литература, Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)
- Автор:
- Издательство:Юридическая литература
- Жанр:
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-7260-0923-1
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Функ ничего не знал о планах Гитлера в области внешней политики и о том, что Гитлер планирует какие-либо агрессивные войны. Правда Функ особенно летом 1939 года заблаговременно начал заниматься вопросом перевода мирного хозяйства на рельсы военного на случай войны...
С точки зрения уголовного права, существенным для рассмотрения дела Функа является не то, отдавал ли он со своей стороны распоряжения о такой подготовке, а то, знал ли Функ, что Гитлер планирует агрессивные войны и что Гитлер намеревается вести такие агрессивные войны, нарушая заключенные договоры и пренебрегая международным правом. Но Функ заявил под присягой, что он не знал и не предполагал этого. Постоянные уверения Гитлера о том, что он хочет сохранить мир, не позволяли ему, Функу, думать о такой возможности. Правда, мы сегодня знаем на основании событий последующего времени и фактов, установленных процессом, что мирные заверения Гитлера, которые он давал даже в момент самоубийства, в действительности были не чем иным, как ложью и обманом. Однако Функ в то время рассматривал мирные заверения Гитлера как чистую правду. В то время ему и в голову не приходила мысль о том, что Гитлер может обмануть его и весь немецкий народ. Напротив, Функ так же верил словам Гитлера и стал жертвой обмана, как и весь мир...
Функа считают также ответственным за применение принудительного труда иностранных рабочих по той причине, что он, начиная с осени 1943 года, был членом так называемого управления центрального планирования. 22 ноября 1943 г., то есть в разгар войны, он впервые участвовал в заседании этого учреждения... Функ вообще, и я хочу это особенно подчеркнуть, не занимался вопросами использования рабочей силы ни в качестве имперского министра экономики, ни в качестве президента Рейхсбанка...
Теперь, господа судьи, я перехожу к предпоследнему разделу обвинения, а именно к деятельности Функа по исключению евреев из участия в хозяйственной жизни в ноябре — декабре 1938 года, что является третьим пунктом обвинения.
Господа судьи, в Германии никогда не утверждали, что Функ принадлежит к тем антисемитам-фанатикам, которые принимали участие в еврейских погромах или приветствовали эти погромы и извлекали из них личную пользу...
Для Функа трагичным является то, что, несмотря на все это, его имя на данном процессе неоднократно упоминалось в связи с распоряжениями от ноября 1938 года, на основании которых евреи были изгнаны из хозяйственной жизни. Независимо от его желания он, будучи министром экономики, должен был рассматривать вопросы, относящиеся к участию евреев в хозяйственной жизни Германии. Он, как чиновник, обязан был издавать необходимые распоряжения по выполнению этих мероприятий...
Функ был особенно удручен, когда 10 ноября 1938 г. в Берлине стал свидетелем ужасных опустошений в еврейских домах и магазинах и когда одно за другим стали поступать сообщения, которые вновь все время подтверждали, что Геббельс и его клика, используя возмущение народа по поводу убийства евреями немецкого дипломата в Париже, организовали такие еврейские погромы по всей Германии, которые привели не только к уничтожению еврейского имущества, но и к убийству большого числа евреев, и к преследованию многих тысяч ни в чем не повинных сограждан...
Мы не должны упускать из виду того, что при проведении всех этих мероприятий Функ действовал лишь в качестве министра экономики, то есть как чиновник, который давал лишь распоряжения, относящиеся к выполнению приказа, изданного по указанию Гитлера Герингом, как уполномоченным по четырехлетнему плану. При этом Функ действовал не по своей воле точно так же, как, например, имперский министр финансов граф Шверин фон Крозигк, который в тот же период должен был издать распоряжение относительно выполнения приказа об уплате евреями выкупа в миллиард рейхсмарок, или как имперский министр юстиции и имперский министр внутренних Дел, которые также издавали аналогичные распоряжения в своей области.
Господа судьи, является ли служебный приказ начальника обстоятельством, исключающим ответственность для лиц, выполнявших их?
В связи с этим правовым вопросом я должен высказать следующие принципиальные соображения.
Естественное восприятие права подсказывает нам, что всякий гражданин государства, а также чиновник и даже солдат в том случае не может ссылаться в свое оправдание на выполнение им служебного приказа, если приказ предписывает совершение явно противозаконных действий, особенно преступления, и если подчиненный по существу дела и при учете всей совокупности обстоятельств сознает или должен сознавать, что служебный приказ начальства противоречит существующему правопорядку. Если имеется эта последняя предпосылка, то есть если приказ начальника явно противоречит существующему праву, то в таком случае правильно, если подчиненному не будет предоставлено право ссылаться в свое оправдание на служебный приказ начальника и утверждать, что он лишь выполнял его. В этом отношении данное положение Устава Трибунала, собственно говоря, не содержит в себе по существу ничего нового, а является подтверждением и дальнейшим развитием правовых принципов, которые, хотя и в различном объеме, уже нашли признаке в уголовном праве большинства современных цивилизованных государств. Правда, при этом будет весьма уместна известная осторожность, ибо, с другой стороны, господа судьи, нельзя забывать, что повиновение приказам начальника, а не только закону, является основой любого государственного управления во всех странах и останется ею в дальнейшем для того, чтобы было обеспечено правильное функционирование государственного административного аппарата и что весьма опасным было бы предоставить на усмотрение самого чиновника вопрос о том, должен ли он соблюдать данную им присягу на верность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 т. Т. 8 (1999)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.