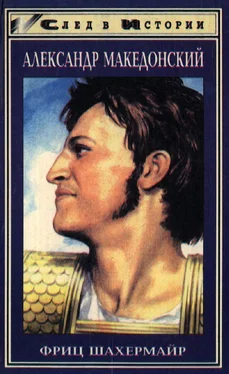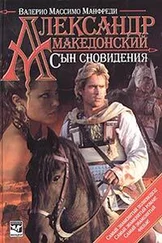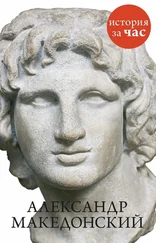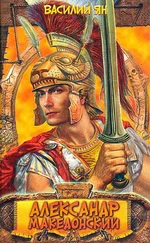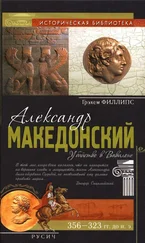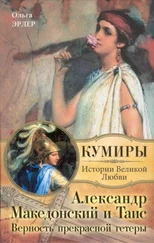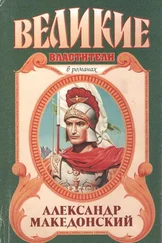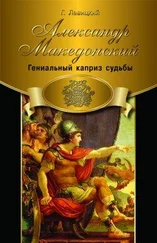Греческие государства Малой Азии, как мы уже говорили, не были включены в Коринфский союз, однако Александр не отдал их под власть сатрапов, а предоставил им самостоятельность под управлением протектора Алкимаха. В 331 г. до н. э. его место занял Филоксен, которому одновременно было поручено заведовать вновь учрежденным управлением Малой Азии. В Ионии в протекторат были включены острова Родос и Кос, а возможно, и Хиос, если только там не восстановили прежний статус (Хиос раньше входил в Коринфский союз). Вполне вероятно, что маленькие города острова Лесбос тоже вошли в Союз.
Подобно Ионии, особое положение занимал и другой протекторат, расположенный в переднеазиатском Леванте [158] Левант — автор обозначает этим средневековым термином государства восточного побережья Средиземного моря — Сирию и Палестину.
. В него вошли финикийские города и некоторые греческие порты Киликии; эти полисы, собственно говоря, никак не были связаны между собой, но, выделенные по аналогии с Ионийским протекторатом Филоксена в 331 г. до н. э. из сатрапии, они подчинялись главе нового левантийского финансового управления.
Третьим протекторатом, видимо, была Александрия. Город входил в финансовое управление Египта, во главе которого стоял неоднократно упоминавшийся нами Клеомен [159] Ps.-Arist. Oecon., II, 33; Justin. XIII, 4, 11.
.
Кипр не только не был включен в какую-либо сатрапию, но царь не послал туда даже протектора. Князья Кипра подчинялись непосредственно самому Александру. Самыми независимыми считались Кирена и, возможно, Митилены. Здесь в виде исключения Александр заключил союз на основе равноправия, иными словами, дал этим городам тот же статус, что и Коринфскому союзу. Либеральное отношение к Кирене свидетельствует о том, что в это время у Александра еще не было планов завоевания Запада. Митиленцы же приняли это как вознаграждение за заслуги в греко-персидских войнах [160] Arr. III, 2, 6 (о Митилене); о Кирене см.: Diod. XVII, 49, 2; Curt. IV, 7, 9.
.
Только Кирена и Митилены не вошли в число вновь покоренных областей, рассматриваемых Александром как земли, «завоеванные копьем», которые он хотел организовать по типу своей империи. Кипр же и городские протектораты принадлежали к империи уже потому, что прежде входили в состав Персии. Здесь Александр не чувствовал себя ни македонским народным царем, ни гегемоном, ни союзником, ни другом, а абсолютным автократическим монархом. Александр считал себя вправе вводить или отменять денежные поборы, требовать военной помощи и определять внутриполитический курс.
В Ионийском протекторате господствовали демократы, но им было запрещено проявлять чрезмерную жестокость к лицам, сотрудничавшим с персами [161] Arr. I, 17, 12.
. На Кипре и в Финикии Александр сохранил старые города-монархии. Александрия управлялась как эллинский полис, но царь разрешил в специальных кварталах селиться местным жителям, не имевшим, с точки зрения греков, права гражданства.
Все остальные земли (кроме протекторатов) — а именно они составляли основную часть завоеваний — по-прежнему управлялись как сатрапии. Их границы проходили в большинстве случаев там же, где и при персах. Но права наместников были в значительной степени сокращены. В Египте Александр разделил сатрапию на четыре части. Для централизации управления весьма существенным было уже упоминавшееся выше нововведение 331 г. до н. э. Были созданы три торгово-финансовых управления, независимых от сатрапий. В первое входили четыре египетские сатрапии и Александрия, во второе — сатрапии Сирия, Киликия и Финикийско-Киликийский прибрежный протекторат, в третье — все сатрапии Малой Азии и Ионийский протекторат. Все три финансовых правителя были в то же время и главами протекторатов. По-видимому, именно Клеомен, советник Александра в Египте, предложил ему эту замечательную организацию финансового и налогового аппарата. Прежде чем Александр продолжил свой Восточный поход, он провел еще несколько должностных перемещений, например заменил сатрапов Лидии и Сирии.
Царю так и не удалось окончательно погасить очаги сопротивления в Средиземноморье. Прежде всего здесь необходимо упомянуть Спарту, остров Крит и многие области Малой Азии. Вифиния и Исаврия еще при персах сохраняли самостоятельность. До македонского завоевания существовали трения с населением горной Киликии; они продолжались и теперь. В Пафлагонии, и главным образом в Каппадокии, после ухода войск Александра вновь вспыхнули волнения, которые поддержали персидские войска, с боями пробившиеся в Анатолию после битвы при Иссе [162] Curt. IV, 1, 34; 5, 13.
. Характерной для Малой Азии этого времени была смерть двух сатрапов — Геллеспонтской Фригии и Киликии, — погибших в боях. Северной имперской дорогой вообще нельзя было пользоваться. Только благодаря энергии Антигона, сатрапа Великой Фригии, караваны могли проходить по южной дороге. Еще одно восстание вспыхнуло в Палестинской Самарии. Там был захвачен в плен и заживо сожжен помощник наместника. Александр находился в это время неподалеку, в Египте. Во время похода в Тир он принудил самаритян выдать виновных [163] Curt. IV, 8, 9 и сл.
. Спорным остается вопрос: вошел ли Александр в Иерусалим? Доподлинно известно только, что не было произведено никаких изменений в положении иудейского храмового государства, входившего в сирийскую сатрапию [164] Josephus. Ant., XI, 313.
. Александр не стремился создавать себе новые трудности и повсюду поддерживал теократические государства.
Читать дальше