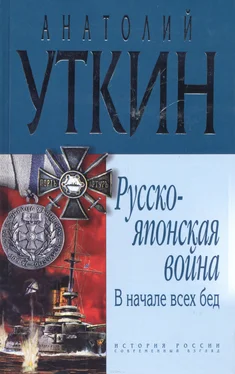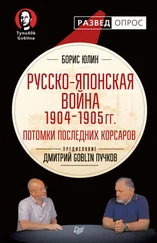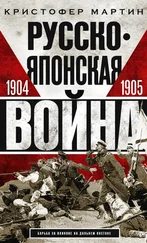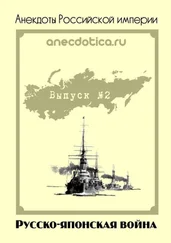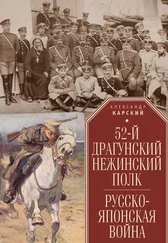К трагической войне Россия пришла с той легкостью, которую традиционно и безнаказанно проявлял Запад в своих отношениях с азиатским, африканским и латиноамериканским миром на протяжении многих столетий в ходе беспроигрышных кампаний. Но оказалось, что у Запада есть более талантливые ученики, чем Россия. После яростного подъема Запада пятьсот лет назад все незападные страны, включая Россию, стали подвержены безусловному правилу: не воюй с западными державами и не соперничай с теми, кто быстрее тебя перенимает западную эффективность. Нарушение этого правила наказывается. В 1904 г. Россия начала на Дальнем Востоке войну со страной, которая после революции Мэйдзи быстрее России учила своих моряков, промышленников, инженеров, офицеров западному опыту. Помноженное на исконный опыт лояльности, патриотизма и стоицизма, это приобщение к западным методам сделало Японию феноменальным по силе противником. Данное обстоятельство ощутили до русских китайцы, а после русских американцы и англичане (чьи корабли, крепости и колонии были потоплены или захвачены японцами в 1941–1942 гг. едва ли не в мановение ока).
И тогда, в начале ХХ века союзникам и противникам России было далеко не безразлично, какая из точек зрения на азиатскую политику будет доминировать в Петербурге. Правда, союзная Франция вовсе не хотела, чтобы русские дивизии стерегли тихоокеанское побережье — они были нужны Парижу как противовес германской мощи. Британия боялась выхода России к ее колониям в Азии. С другой стороны, Вильгельм II руководствовался следующим: «Мы должны привязать Россию к Восточной Азии так, чтобы она обращала меньше внимания на Европу и Ближний Восток» [8] Die Grosse Politik der Europaischen Kabineten. Berlin, Band IX, S. 2318.
. Британия и Америка совершенно откровенно симпатизировали Японии как силе, способной остановить Россию в Азии.
Наиболее талантливые государственные деятели России были категорически против авантюризма, они открыто опасались схватки с азиатским гигантом, совсем недавно поправшим Китай. В марте 1899 г. в специальном меморандуме С. Ю. Витте указывал, что путем спасения России перед всемогущим Западом является гарантированная десятилетиями мира ускоренная индустриализация [9] Институт истории АН СССР. Материалы по истории СССР. Выпуск 6. Документы по истории монополистического капитализма в России. М., 1959, с.177, 195.
. Далеко не все в Петербурге одобряли это движение на отдаленный на половину экватора Дальний Восток. Так, министр иностранных дел Ламздорф придерживался той точки зрения, что Россия не должна тратить свою ограниченную энергию должна немедленно выйти из Маньчжурии. Активность в Азии, по его мнению, ослабляла Россию в том месте, где творится история, в главном месте Земли, в Европе. Трезво мыслящая часть правящих кругов России призывала реалистически оценить объективную реальность. В будущем Россия, возможно, станет колоссом, но пока она была одной из самых отсталых стран Европы. Насущная задача состояла в том, чтобы обеспечить ей место участника индустриальной революции, занять нишу в мировой торговле, развить внутренние коммуникации. В начале ХХ в. валовой национальный продукт на душу населения в России был в 5 раз меньше среднеевропейских показателей. Перед Россией стояла задача была сократить этот разрыв, иначе она просто “выталкивалась” из Европы.
Россия начинала создавать свой центр геополитического влияния. Он был слабым по сравнению с центральноевропейским, западноевропейским или американским и складывался там, где конкуренция с Западом отсутствовала — в Северном Китае, Афганистане, Северном Иране, Корее. Такие финансовые институты как Русско-Китайский банк, служили основой русских интересов. Казалось, что колосс России непоколебим и будущее обеспечено в любом случае.
Представлялось, что России, требуется всего лишь несколько благоприятных лет для выравнивания того экономико-цивилизационного рва, который отделяет ее от Запада. Желая иметь эти годы для цивилизационного роста России, С.Ю. Витте осуждал приверженность императора Николая к бездумной «энергичности»; он полагал, что эта линия русского царя объясняется его юным возрастом, его неприязнью по отношению к японцам, его подспудным желанием получить венок славы как итог «маленькой победоносной войны».
Однако многие в поколении Витте и Столыпина, поколении железных дорог и быстрого развития городов, решительно отходит от интеллектуальной настороженности Победоносцева и Достоевского, которые очень осторожно оценивали Россию как мировой силы перед лицом неумолимого Запада. Самоутверждение столкнулось с осторожностью. В 1903 г. Государственный совет России пришел к выводу, на который сегодня трудно смотреть без умиления: границы Российского государства оптимальны и окончательны, теперь России предстоят лишь внутренние улучшения. Сто лет спустя удивительной кажется уверенность русского руководства, с легкостью отбросившего это умозаключение, увидев новые возможности в Маньчжурии и Корее. К счастью для них, российских государственных деятелей начала ХХ века, они не знали лютой правды грядущего, финала русского пути в двадцатом веке, где войны и революции погребли итог их многовековых деяний.
Читать дальше