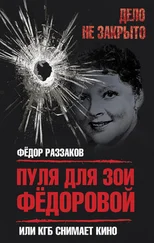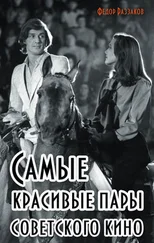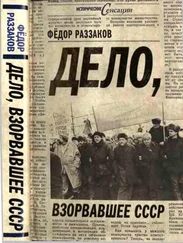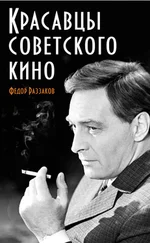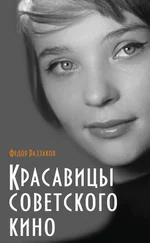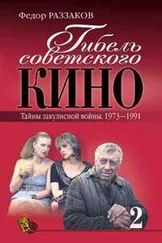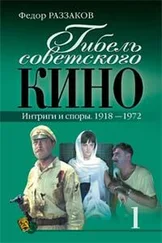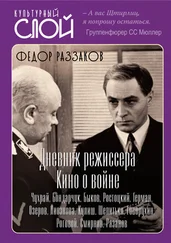Видимо, понимая, что огульно отрицать вклад советского кинематографа в мировой кинопроцесс глупо, Головской далее пишет: «Но если контроль был столь суров, если зажим властей был так эффективен, каким же образом иногда все же просачивались на экран или хотя бы создавались и ложились на полку фильмы высокохудожественные, спорные, смелые? Как могли преодолеть все преграды «Зеркало», «Дневные звезды», лирика Иоселиани, острая сатира Рязанова… Конечно, в каждом случае были индивидуальные причины. Но можно назвать и несколько более общих. Например, экономический фактор, когда необходимость выполнения финансового плана и пополнения оскудевшей государственной казны давала возможность некоторым работам прорываться на экран вопреки очевидным, с точки зрения партаппарата, идейным просчетам…»
Абракадабра какая-то. Если речь идет о коммерческих фильмах, то они никогда не содержали в себе практически никаких идейных просчетов и достаточно легко выходили на экран: взять те же «Пираты XX века», «Экипаж» или «Москва слезам не верит». Если речь идет о серьезном кинематографе, то какой экономический фактор вынуждал советские власти поддерживать фильмы Тарковского, Иоселиани или Параджанова, которые в прокате были нерентабельными — собирали от 3 до 5 миллионов зрителей (при нижней норме в 10 миллионов)? Не честнее ли было бы написать, что появление картин перечисленных режиссеров целиком зиждилось на государственной политике, основанной на голом альтруизме — то есть поддержке даже такого искусства, которое в финансовом отношении нерентабельно. Это, кстати, и на Западе признавали. Известный голливудский продюсер Дэвид Паттнем по этому поводу публично заявил: «Кино в Советском Союзе — это прежде всего искусство, мы все это понимаем, восхищаемся этим и завидуем. А кино на Западе — это прежде всего бизнес…»
После того как советское кино попало в руки бизнесменов-перестройщиков («пошлых спекулянтов», по Ленину), оно именно прекратило свое существование как настоящее искусство. При этом совершенно неважно, что ими двигало: преднамеренное предательство или заблуждение. Суть одна: это привело к катастрофе не только кинематограф, но и страну. Известный американский экономист Дж. Гэлбрейт, оценивая итоги горбачевской перестройки, как-то заметил, что деяния перестройщиков являли собой «клинический случай». Видимо, имелись в виду те перестройщики, кто творил катастрофу по неведению. Однако диагноз поставлен верно: большинство политиков, вставших у руля перестройки, и в самом деле являлись скорее людьми неадекватными, а то и психически ущербными.
Этот диагноз в полной мере относится и к большинству реформаторов из стана кинематографистов. Их беда была в том, что они варились в своем узком мирке и давно перестали понимать не только мировой кинематограф, но даже собственный. Многие из них растранжирили свой талант на склоки и дрязги и, по сути, жили только одним чувством — злобой, которая, как известно, не идет на пользу психике. Именно она и стала их питательной средой на долгие годы.
По этому поводу приведу весьма характерный случай, произошедший вскоре после V съезда с Никитой Михалковым. Как мы помним, он оказался за бортом руководства СК (и, как теперь выяснилось, слава богу), однако с новыми руководителями периодически встречался. И вот однажды при личной встрече с Элемом Климовым Михалков обронил такую фразу: «Мной могут руководить только добрые люди, а ты, Элем, злой». Беда была в том, что таких злых (а вернее сказать, озлобленных) в новом руководстве СК оказалось большинство.
Судя по всему, огульное очернение советского кинематографа было необходимо либерал-перестройщикам для того, чтобы под видом перемен уничтожить прежнюю киноотрасль. Точно так же они поступили, к примеру, с колхозами: обвинили их в том, что они сплошь убыточны и висят камнем на шее у государства. Хотя это было не так. В конце 80-х в СССР было 24 720 колхозов, которые дали 21 миллиард рублей прибыли. Убыточными были только 275 колхозов (1 %), и все их убытки составили 49 миллионов рублей (0,2 % от прибыли).
Тем, кто планировал разрушение СССР, не нужны были ни колхозы, ни тот гражданственно-патриотический кинематограф, который тогда существовал. Но чтобы разрушить его, требовались веские причины, которые и были найдены в виде разного рода недостатков, всегда имеющихся в наличии в любой отрасли народного хозяйства. Взять, к примеру, того же Элема Климова, который в своих воззрениях недалеко ушел от эмигранта Головского. В своей книге о советском кинематографе, которую через год выпустит для Запада агентство АПН, Климов так описал доперестроечную ситуацию в кино:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу