Попытки индивидуализировать мышление тесно связаны — и не только в работе Копосова — со стремлением взаимно обособить — чем радикальнее, тем лучше — семантику и референцию. Эти попытки в полной мере проявились в споре об именах собственных, семантическая пустота которых сомнительна и для нашего нео-неокантианца. Удивительно, что в случае дискуссии о классификации, в ходе коей защитники различных версий теории прототипа обрушились на аристотелевский принцип необходимых и достаточных условий (впрочем, мало-помалу смягчая категоричность утверждений), он не усмотрел наивности в аналогичном обособлении. И это при том, что во «Введении» ясно выражены сомнения в обоснованности жесткого разграничения «пространственного воображения» и предикативного мышления, а историко-культурный характер пресловутых «паралогик» констатируется — и, местами, исследуется автором еп bon historien — на всем протяжении сочинения. Не помогает и ограничение сферы действия логики прототипа. Забавно в связи с этим, что иногда автор в эксплицитной форме вводит в обращение темы «тела» (как радикально иного в отношении к «культуре») и «опыта вещей», запутываясь в собственном «конструктивизме». Путаница дает себя знать уже в определении этого последнего, ибо из него следует, что конструирует бессознательное: «Мы понимаем конструктивизм в прямо противоположном смысле — как бессознательное проецирование на историю структур разума» (с. 9, примеч. 1). Не говоря о неуместности «конструктивных» метафор, замечу только, что до столь не любимого автором авторского же «Гегеля» здесь рукой подать.
Читатель, наверное, уже заметил, что парадигматические фигуры новоевропейской философии играют в сочинении Копосова фарсовые роли: Кант, Рикер, Дильтей, Риккерт, Ницше… но в особенности Гегель — этакий мальчик для битья. Вроде бы отправившийся на поиски a priori нашего мышления автор должен аккуратно обходиться с этим символом всеобщего разума. В конце концов, отсечение гегелевской ветви от кантовского наследия тоже не назовешь особенно продуктивным ходом. Но главное, историографу следовало бы внимательнее отнестись к собственному тексту. Несмотря на призывы к множественности подходов, в его сочинении все-таки реализован более или менее определенный взгляд на вещи — от «пространственного воображения». Причем большие фигуры-концепты этого «воображения» возникают из «тьмы веков» с тем, чтобы воплотиться в трудах анналистов 1950–1960-х годов и далее, сменяя друг друга у руля. Чуть больше определенности в «воображении», и эта смена приобретет необходимый характер. Более того, приобретает — на ограниченных отрезках. Например, «старый комод», осмеянный Л. Февром, становится у Копосова Судьбой (нео)позитивистской историографии. При желании кто-либо мог бы порассуждать об имплицитном присутствии в книге если не идеи «исторического органа», в конце концов произведшего на свет университетскую историографию, то, по крайней мере, идеи «социального органа», породившего весь комплекс социальных наук. Правда, Гегелю вряд ли пришла бы в голову мысль о сугубо психологической природе этого органа, — мысль не о субъекте, но о Субъекте (кое-где, правда, приобретающем черты Природы, как в путаном определении авторского «конструктивизма»), излагаемая с несвойственным большей части книги пафосом. Но здесь, видимо, сыграла печальную роль «базовая метафора» хаоса, которая, по собственному признанию автора, вряд ли чем-нибудь лучше аристотелевской метафоры космоса. Иначе историограф, почти дословно повторяющий Н. Гудмена, вспомнил бы и мудрую оговорку этого мыслителя о существовании бессмысленных утверждений, указывающем на пределы нашего мышления. Впрочем, кантианец это знает и без Гудмена.
Опять-таки примечательно для последователя Канта жесткое противопоставление нормативного и констатирующего аспектов философского суждения. В этой связи особые претензии предъявляются неокантианцам. Занимаясь тем, что сегодня назвали бы «эпистемологией гуманитарного знания», Дильтей, Риккерт, Зиммель и Вебер не довели до конца открытие неаристотелевской теории классификации потому, что были слишком озабочены оправданием исторического знания как объективного. В особенности Дильтей и Риккерт акцентировали «абсолютный характер» ценностей: в одном случае под именем «индивидуальности», в другом — «культуры». Проблематика ценностей позволила сэкономить на анализе логической структуры категорий и благополучно разрешить проблему истинности. Помимо того что подобное объяснение не кажется убедительным, странно, что Копосов не замечает того, что именно критическая философия (причем в кантовском, классическом варианте) приложила немало усилий для формирования нового образа ученого — как просветителя, смиренного слуги истины. То есть автор не различает этических мотивов любой критики. Не замечает он и того, что сам чрезмерно увлекся психологической стороной теории прототипа и противопоставил семантику и референцию — и по небрежности, и по этим самым мотивам! Логический анализ социальных классификаций в определенный момент сменился рассуждениями о принципиальной несопоставимости «описания» и «классификации» (при ничего не значащей оговорке о том, что они «нераздельны») и соответственно «значения» и «референции». От логики историограф перешел к психологии и далее — к темной метафизике «индивидуального». Верит ли он в возможность этически нейтрального (т. е. лишенного этического содержания) знания, распространяя этот взгляд с естественных на гуманитарные науки? И не смешивает ли он имплицитно «нейтральное», «незаинтересованное» и «всеобщее»? В этой связи следовало бы быть вдвойне осторожным с Вебером, которому часто — и без оснований — приписывали сугубо инструментальный взгляд на науку. Напомним, что последний всегда подчеркивал особый статус субъекта познания, в том числе и в гуманитарных науках, и уделял исключительное внимание работе над понятиями. Копосов совершенно оставил в стороне веберовское понимание «свободы от оценки» в истории и социологии — понимание, предполагавшее моральное усилие. Наконец, несерьезно предъявлять претензии в отсутствии конкретного анализа мышления историков тем теоретикам, которые работали в то время, когда ни истории, ни социологии науки не существовало, и отталкивались прежде всего от общих философских проблем в их традиционных формулировках.
Читать дальше
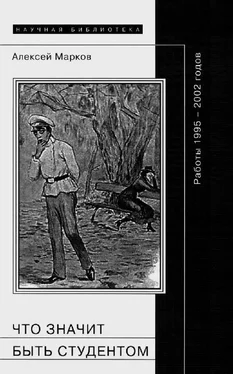




![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/390524/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi-thumb.webp)






