Сказать, что изучение становления советского универсума, с его набором ценностей и ритуалов, задавалось для Алексея именно эпохой упадка и демонтажа этого строя, было бы, на мой взгляд, слишком поспешным и неверным. Однако связь между проблематикой его научных занятий и личностным сознанием безусловно и признавалась, и рефлексировалась им самим. Для исторического анализа индивидуальной и групповой идентичности Алексею особенно важны во второй половине 1990-х годов были уже не социально-психологические подходы (Сержа Московичи и др.), но в первую очередь историко-антропологические исследования и аналитические статьи французских исследователей Бернара Лепти и Андре Бургьера. Глубокие и обстоятельные занятия историческими формообразованиями сексуальности (вслед за пионерскими работами Фицпатрик и Энгельстайн) принципиально включали «невидимые» и репрессированные практики и были тесно связаны с общими изменениями в обществе и академической среде конца 1980-х — начала 1990-х годов и вместе с тем абсолютно лишены сенсационного налета или наивно-просветительского пафоса [9] Достаточно сравнить публикацию Алексея Маркова и Владимира Берсенева («Геи и полиция») с книгой К. К. Ротикова «Другой Петербург»; эта статья и комментарии Алексея широко использовались также в интересной работе: Healey D. Masculine Purity and «Gentlemen Mischief»: Sexual Exchange and Prostitution between Russian Men, 1861–1941 // Slavic Review. № 60 (2). 2001. P. 233–265. Подготовка сборника документов no истории гомосексуальности в России (совместно с Д. Хили) — еще один из начатых, но оставшихся нереализованными проектов Алексея.
. Свидетельством несомненной персональной заинтересованности Алексея в позитивных переменах в поле гуманитарного знания в 1990-е годы, своеобразным итогом его ученического и преподавательского опыта является публикуемая ниже статья о путях реформирования института аспирантуры, подготовленная им совместно с петербургским социологом Борисом Винером. Тот же интерес к актуальным трансформациям нашего исследовательского сообщества, но уже в методологической плоскости, засвидетельствован в многочисленных рецензиях гуманитарных новинок на страницах «Новой русской книги». Особенно показателен здесь развернутый отклик Алексея Маркова (напечатанный уже посмертно) на очень содержательную и вызвавшую множество противоречивых откликов книгу Н. Е. Копосова. Конец 1990-х годов обогатил исследовательский арсенал Алексея, помимо эпистемологии Фуко, также обращением к социологии Бурдье, к рассмотрению ценностных порядков по Тевено и Болтански и — в качестве философского дисциплинирования мысли — к методическому ригоризму аналитической традиции (и таких ее континентальных представителей, как Жак Буврес). Бессистемное и хаотичное заимствование «западных» методов и подходов постепенно сменялось к середине 1990-х более вдумчивым и рефлексивным освоением — и эти критичность и самостоятельность проявились у Алексея очень рано. Специальные работы по философии и социальной теории, занятия антропологией медицинских практик в Швеции (и в прагматическом и в этическом измерениях) продолжали, обогащали и существенно меняли его исходную установку историка.
* * *
Сейчас, когда любой разговор об Алексее выстраивается в горькой модальности прошедшего времени: «был», «собирался», «готовился», — привычное выражение «историография вопроса» обретает при разговоре о его излюбленных сюжетах, темах и постановках проблем неожиданно личностное измерение. Спор о советской субъективности, история интеллигенции в повседневном и культурно-антропологическом срезах, «дискурсивная» история сексуальности, практическая методология и философский горизонт наших занятий с текстами и источниками прошлого и настоящего — все эти направления современной отечественной гуманитарии будут развиваться и с учетом сделанного Алексеем Марковым. Качество и характер работы любого историка определяются не только «вообще» окружающей эпохой или уже написанными до него исследованиями, но и личностным вкладом его предшественников в существующую традицию: кто-то другой или мы сами обязательно станем развивать детально изученные или полемически затронутые им идеи и вопросы — однако это будет, так или иначе, уже после Алексея Маркова. Ведь помимо «сухого остатка» в виде списка статей и публикаций особенно значимой в питерской и отчасти московской гуманитарной среде — в самых разных компаниях историков, философов, филологов, писателей и художников — была роль Алексея в качестве всезнающего и внимательного собеседника, неутомимого спорщика, участливого советчика и слушателя. И в человеческом смысле, и в профессиональном и интеллектуальном плане его уход стал совершенно невосполнимой утратой для всех, кто его знал.
Читать дальше
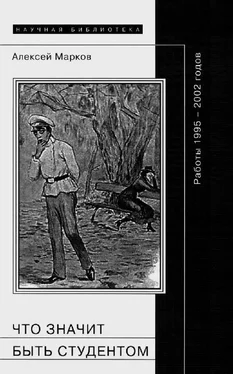




![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/390524/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi-thumb.webp)






