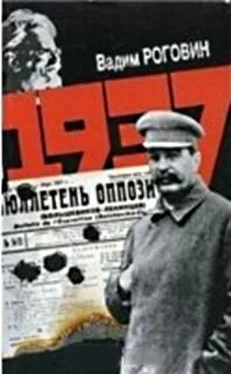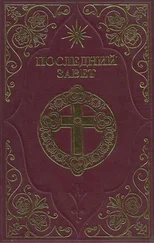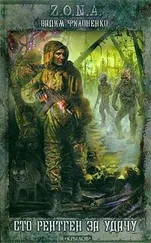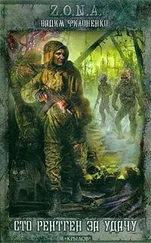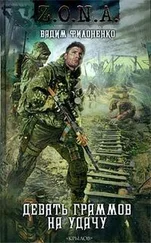Обратимся теперь к свидетельствам, исходящим, так сказать, с противоположного фланга — от людей, наиболее приближённых к Сталину и совместно с ним готовивших процесс генералов. В этом плане мы немало обязаны Феликсу Чуеву — заядлому сталинисту, одержимому жгучим желанием реабилитировать и возвеличить Сталина, а потому пользовавшемуся доверием со стороны Молотова и Кагановича, которые отвечали на его самые «каверзные» вопросы. Оба этих сталинских приспешника в беседах с Чуевым категорически отрицали тот факт, что они дали согласие на реабилитацию военачальников. Между тем решение о юридической реабилитации последних было принято Военной коллегией Верховного Суда СССР 31 января 1957 года (в отношении Гамарника — ещё в 1955 году), а решение об их партийной реабилитации — на заседании Президиума ЦК КПСС 25 апреля 1957 года, т. е. в то время, когда Молотов и Каганович находились в составе Президиума ЦК КПСС. На июньском пленуме ЦК 1957 года, где им было прямо предъявлено обвинение в расправе над Тухачевским и его соратниками, они не обмолвились ни единым словом о своём несогласии с реабилитацией военачальников.
Спустя много лет, отстаивая версию о виновности генералов в преступлениях, инкриминировавшихся им на процессе 1937 года, Каганович выдвигал весьма неубедительные аргументы: «И всё-таки какая-то группировка командного состава была, не могла не быть. Она была. Вся эта верхушка в Германии проходила учебу, была связана с немцами. Мы получили сведения, у Сталина были данные, что у нас есть связанная с фашистами группа… Тухачевский был, по всем данным, бонапартистских настроений. Способный человек. Мог претендовать» [1092] Чуев Ф. Так говорил Каганович. С. 45.
.
Не более вразумительно Каганович отвечал на конкретные вопросы Чуева:
«— Был ли он [Тухачевский] заговорщиком?
— Я вполне это допускаю.
— Сейчас пишут, что показания выбиты из них чекистами.
— Дело не в показаниях, а в тех материалах, которые были до суда,— говорит Каганович.
— Но их подбросили немцы Сталину через Бенеша.
— Говорят, английская разведка. Но я допускаю, что он был заговорщиком. Тогда всё могло быть» [1093] Там же. С. 100—101.
.
Более связно и с большей долей уверенности излагал версию о заговоре Молотов. Когда Чуев зачитал ему отрывок из книги Черчилля — об информации, полученной от Бенеша как отправной точке организации процесса,— Молотов сказал: «Не уверен, что этот вопрос правильно излагается… Не мог Сталин поверить письму буржуазного лидера, когда он далеко не всегда своим вполне доверял. Дело в том, что мы и без Бенеша знали о заговоре, нам даже была известна дата переворота» [1094] Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 441—442.
.
О «заговоре Тухачевского» Молотов охотно говорил и с другими писателями, придерживавшимися сталинистских взглядов. В книге с многозначительным названием «Исповедь сталиниста» Иван Стаднюк сообщал, что в беседе об этом заговоре «Молотов подробно рассказывал, кто и когда должен был убить его и Сталина, Ворошилова и Кагановича» [1095] Стаднюк И. Исповедь сталиниста. М., 1993. С. 343.
.
Ещё одним писателем, с которым Молотов делился своими воспоминаниями и суждениями, был В. Карпов, первый секретарь Союза советских писателей и член ЦК КПСС. В книге о Жукове Карпов рассказывает, как он однажды поднял в беседе с Молотовым вопрос о расправе над генералами:
«— Крупнейшие военачальники, в гражданской войне столько добрых дел свершили, вы всех хорошо знали, не было ли сомнения насчет их вражеской деятельности?
Молотов твёрдо и даже, я бы сказал, жестоко ответил:
— В отношении этих военных деятелей у меня никаких сомнений не было, я сам знал их как ставленников Троцкого — это его кадры. Он их насаждал с далеко идущими целями, ещё когда сам метил на пост главы государства. Очень хорошо, что мы успели до войны обезвредить этих заговорщиков… Я всегда знал Тухачевского как зловещую фигуру…» [1096] Карпов В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в годы войны и мира. С. 69.
Воспоминания Молотова представляют интерес прежде всего как отражение тёмной психологии этого человека, до последних дней своей жизни стремившегося оправдать собственные преступления. Это, однако, не исключает того, что некоторые фрагменты из его свидетельств могут быть, как я постараюсь показать ниже, учтены при обсуждении вопроса о существовании «военного заговора».
К сожалению, отечественные и зарубежные исследователи, вновь и вновь возвращающиеся к разгадке дела Тухачевского, не обладают практически ни одним незаинтересованным свидетельством непричастного к этой трагедии человека. В таких случаях историк вынужден признать существование того, что называется «белым пятном». Именно белым, потому что оно лишено цвета, т. е. в историческом смысле — оценки. Обыденному сознанию трудно примириться с таким равнодушием, оно стремится раскрасить историю, чтобы непременно найти виноватых и жертв. Историк же обязан оставить в представленной им картине незакрашенные пятна, пока не найдёт объективные и безупречные свидетельства и доказательства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу