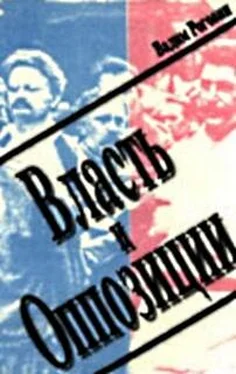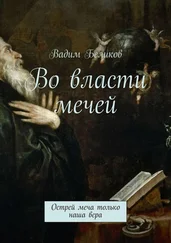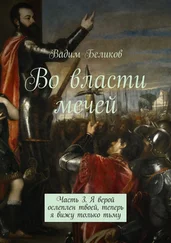Ещё более резко эти вопросы ставились в письме, направленном в 1933 году Сталину коммунистом Н. Хрулёвым. Ясно отдавая себе отчёт в последствиях, которые может навлечь на него это письмо, представлявшее «результат долгих размышлений, многих бессонных ночей», автор замечал, что отказ от его написания «означал бы для меня потерю коммунистической совести, и я перестал бы себя уважать».
Хрулёв с возмущением писал о превращении Сталиным своего культа «в непререкаемый догмат нашей партии, в неписанную программу и устав, малейшие сомнения в котором ведут к остракизму… Эта постоянная газетная ложь, неужели от неё Вас не тошнит, или уж Вы так убеждены, что… без Вашего культа мы не сможем просуществовать, строить?»
Обвиняя Сталина в том, что его политика потребовала миллионы жертв, Хрулёв предупреждал, что «история разберется лучше и вынесёт свой приговор: как ни велика Ваша самоуверенность и ни безгранична Ваша реальная власть — не в Ваших силах продиктовать будущему оценку наших дней и Вашей роли!.. Ваша теория, что йота отступления от Вашей линии привела бы к реставрации, будет решительно отброшена… Ссылка на классовую борьбу и кулака не спасет» [557] Социалистическая индустрия. 1989. 8 ноября.
.
Хрулёв жестоко поплатился за это письмо. Он был осуждён на три года лишения свободы, а в 1938 году повторно репрессирован за «контрреволюционную агитацию».
О том, что письма такого рода были далеко не единичными, свидетельствует информационная сводка о политических настроениях в стране, подготовленная осенью 1932 года для узкого круга лиц из партийного руководства. Эта сводка включала 408 писем, поступивших в ЦИК СССР. Типичным в ряду этих писем было письмо, в котором говорилось: «Вы не знаете подлинного настроения масс. Вы взяли курс не на рабочую массу, а на технический персонал и руководящую бюрократическую массу, которая безоговорочно выполнит всё, что предписывалось сверху… Это не случайное явление, а политика вождя Сталина, который выгнал лучшие силы из руководящих аппаратов, твёрдых большевиков-ленинцев, которые могли твёрдо отстаивать свои взгляды и прислушиваться к нуждам рабочего класса» [558] Мартемьян Рютин. На колени не встану. М., 1992. С. 31—32.
.
Поток негодующих писем шёл и в Центральную Контрольную Комиссию, в которой многие коммунисты ещё видели орган, способный оградить партию от сталинского произвола. В письмах, поступивших в ЦКК в конце 1932 года, встречались следующие высказывания: «Необходимо говорить — да здравствует Сталин, хотя миллионы голодают, мрут с голода, голые и босые, 5 лет грабят крестьян, из года в год, из месяца в месяц голоднее» (письмо подписано: «Ленинец. Устинов», с указанием номера партбилета). «Да здравствует ленинская партия, а не сталинская!» «Рабочий класс не простит вам издевательства над вождями рабочего класса» (на этом письме наложена резолюция Ярославского: «Штамп на конверте. Установить автора. Место отправления — г. Белев») [559] Там же. С. 296.
.
Все эти письма, обращённые к партийно-советской верхушке, выступают ярким свидетельством того, что партия в те годы не была столь «монолитна», как утверждала сталинская и постсталинская советская историография и как утверждают, хотя и с противоположной целью, современные антикоммунисты, возлагающие ответственность за преступления сталинской клики на всю партию. В действительности большевистские идеи продолжали жить в сознании множества коммунистов, видевших в сталинской политике жестокое поругание этих идей.
Выражения социального и политического протеста не исчерпывались индивидуальными попытками воззвать к разуму и совести руководителей. В 1932 году в ряде городов прошли выступления рабочих в связи со снижением норм карточного снабжения и нерегулярной выдачей продуктов по карточкам. Особенно внушительные забастовки и демонстрации развернулись в Ивановской области, куда для «наведения порядка» были направлены секретари ЦК Каганович и Постышев.
В письмах из СССР, публикуемых в «Бюллетене оппозиции», сообщалось об исключении из партии многих сотен рабочих за выступления против политики сталинской клики. Несмотря на это, «оппозиционные шатания» проникали не только в партийные низы, но и в среду аппаратчиков, постоянно ощущавших как давление сверху, в виде бесчисленных директив, требовавших неуклонного и безоговорочного выполнения беспощадных решений и нереальных планов, так и давление снизу, со стороны трудящихся, возмущённых этими планами и решениями.
Читать дальше