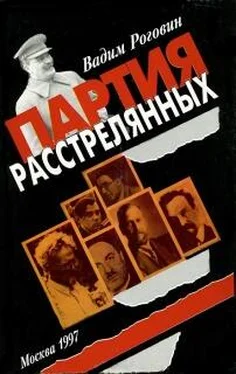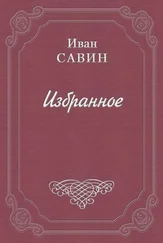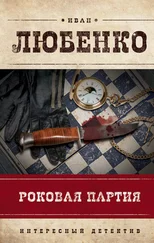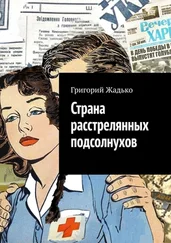Чтобы крепче повязать партийных функционеров участием в репрессиях, Сталин, как вспоминал Хрущёв, «выдвинул идею, что секретари обкомов партии должны ходить в тюрьмы и проверять правильность действий чекистских органов… Это получался не контроль, а фикция, ширма, которая прикрывала их действия… Теперь ясно, что Сталин сделал это сознательно, он продумал это дело, чтобы, когда понадобится, мог бы сказать: „Там же партийная организация. Они ведь следят, они обязаны следить“… Фактически не партийная организация следила за чекистскими органами, а чекистские органы следили за партийной организацией, за всеми партийными руководителями» [533] Вопросы истории. 1990. № 2. С. 104.
.
В целях непрерывного ужесточения террора и осуществления его «на законных основаниях», Сталин и его приспешники расширяли «правовое обеспечение» репрессий. Так, постановлением ЦИК СССР от 2 октября 1937 года максимальный срок лишения свободы за шпионаж и измену Родине был повышен с 10 до 25 лет [534] Собрание законов и постановлений Правительства СССР. 1937. № 66. Ст. 297.
. 14 сентября 1937 года упрощённый порядок рассмотрения дел о терроре, установленный в 1934 году (слушание дел без участия прокурора и адвоката, запрещение кассационного обжалования приговоров и подачи ходатайств о помиловании, приведение приговора в исполнение немедленно после его вынесения), был распространён на дела о вредительстве и диверсиях [535] Они не молчали. С. 216.
. Такой порядок, по существу, копировал столыпинские законы о военно-полевых судах.
В 1937 году была существенно расширена сфера внесудебных расправ. Здесь также были использованы традиции царской России, где широко применялась учрежденная ещё Александром II административная ссылка без суда — по указам Особого совещания при министерстве внутренних дел. В начале XX века число административно ссыльных в Сибири исчислялось сотнями тысяч.
8 апреля 1937 года Политбюро утвердило положение об Особом совещании при НКВД, которому предоставлялось право ссылать «лиц, признаваемых общественно опасными», под гласный надзор или заключать их в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет. Особое совещание наделялось также правом заключать в тюрьму на срок от 5 до 8 лет «лиц, подозреваемых в шпионаже, вредительстве, диверсиях и террористической деятельности» [536] РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 986. Л. 24.
(курсив мой.— В. Р. ). Спустя несколько месяцев меры наказания, выносимые Особым совещанием, были расширены до двадцати пяти лет лишения свободы и расстрела. Принятие этих чрезвычайных законов возводило внесудебные репрессии в ранг юридических норм.
Условия для репрессивного беспредела устанавливались и подзаконными актами — приказами наркома внутренних дел. Так, по приказу Ежова от 30 июля 1937 года, утверждённому Политбюро, в республиках, краях и областях были созданы «тройки», которым предоставлялось право в отсутствие обвиняемых рассматривать дела и выносить приговоры, вплоть до высшей меры наказания. «Тройка» обычно даже не собиралась, а её членам просто приносили бумаги для подписи от её председателя — высшего чина НКВД. Приказами Ежова от 11 августа и 20 сентября 1937 года внесудебное рассмотрение дел было возложено также на «двойки», состоящие из местных руководителей НКВД и прокуроров [537] Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. С. 81—82.
.
Эти приказы подкреплялись распоряжениями генерального прокурора СССР Вышинского. Так, летом 1937 года Вышинский предписал прокурорам передавать в «тройки» «ещё не рассмотренные судами» дела о государственных преступлениях. 27 декабря 1937 года он издал циркуляр, содержавший указание представлять на рассмотрение Особого совещания уголовные дела в тех случаях, когда «характер доказательств виновности обвиняемого не допускает использования их в судебном заседании» [538] Коммунист. 1990. № 10. С. 107.
. К таким «доказательствам» относились донесения тайных осведомителей, показания лжесвидетелей и провокаторов и т. п.
В стране делалось всё, чтобы поднять авторитет высших чинов НКВД. На выборах в Верховный Совет СССР были избраны депутатами все наркомы внутренних дел союзных и автономных республик и все начальники областных и краевых управлений НКВД, на выборах в республиканские Верховные Советы — все их заместители.
Разумеется, многие работники НКВД не могли не задаваться вопросами, по какой причине от них требуют откровенных фальсификаций и подлогов. О том, какой ответ давался на этот вопрос в центральном аппарате НКВД, можно судить по воспоминаниям бывшего генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Мильчакова. На его допросе следователь лейтенант Мешик (впоследствии доросший на службе у Берии до генеральского чина и поста наркома внутренних дел УССР) цинично заявлял: «Такие, как ты, отжили свой век, хоть ты и не старый. Вы цепляетесь за жалкие побрякушки советской и партийной демократии, самокритики. Кому, к черту, они нужны? Вы не поняли изменившейся обстановки. Нужен обновлённый, новый режим и прежде всего твёрдая власть, возглавляемая сильным „хозяином“. Пришла эпоха Сталина, а с нею — и новые люди, занимающие все позиции в аппарате. В авангарде идёт гвардия Сталина, чекисты… Мы, чекисты — партия в партии. Мы вычистим из рядов партии половину всякого хлама, вроде так называемой „старой гвардии“ и лиц, связанных со стариками, со взглядами вчерашнего дня. Около миллиона людей, состоявших в партии, мы уже, наверное, вытряхнули… А остальные будут перевоспитаны. Они пойдут за нами, за Сталиным, как миленькие. Они займут ваши места во всех аппаратах и будут дорожить оказанным им доверием» [539] Реабилитирован посмертно. М., 1988. С. 415—416.
.
Читать дальше