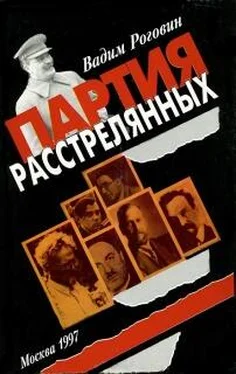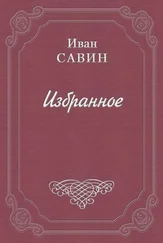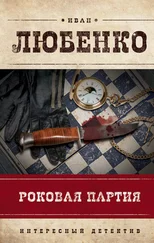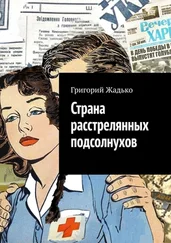В августе 1939 года было опубликовано открытое письмо Раскольникова Сталину. В конце августа Раскольников, находясь в Ницце, заболел воспалением лёгких и 12 сентября скончался.
В отличие от других невозвращенцев, Раскольников был посмертно реабилитирован — во время второй волны разоблачений сталинских преступлений, поднявшейся после XXII съезда КПСС. 10 июля 1963 года пленум Верховного суда СССР отменил постановление по его делу «за отсутствием в его действиях состава преступления». Вскоре Раскольников был восстановлен в партии.
В декабре 1963 года журнал «Вопросы истории» опубликовал статью В. С. Зайцева «Герой Октября и гражданской войны», где говорилось, что Раскольников до последних дней своей жизни «оставался большевиком, ленинцем, гражданином Советского Союза» [828] Вопросы истории КПСС. 1963. № 12. С. 94.
. Вслед за этим был выпущен сборник воспоминаний и рассказов Раскольникова «На боевых постах». Вдова и дочь Раскольникова были радушно приняты в Советском Союзе. Обсуждался вопрос о возвращении праха Раскольникова на родину и перезахоронении его в Кронштадте.
Однако начавшаяся в 1965 году кампания ресталинизации не могла обойти Раскольникова. Для сталинистов был неприемлем сам прецедент возвращения доброго имени «невозвращенцу». Инициативу вторичного опорочивания Раскольникова взял на себя заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Трапезников, который в сентябре 1965 года на представительном совещании, используя оголтелую сталинистскую лексику, заявил: «В идейном отношении Раскольников был всегда активным троцкистом [829] В действительности Раскольников никогда не имел отношения к левой оппозиции. Но для сталинистов типа Трапезникова «троцкистом» являлся каждый человек, выступавший против Сталина.
. Сбратавшись с белогвардейцами, фашистской мразью, этот отщепенец стал оплёвывать всё, что было добыто и утверждено потом и кровью советских людей, очернять великое знамя ленинизма и восхвалять троцкизм. Только безответственные люди могли дезертирство Раскольникова, его бегство из Советского Союза расценивать как подвиг» [830] Реабилитирован посмертно. С. 223.
.
Аналогичные суждения содержались в статье пяти официозных историков «За ленинскую партийность в освещении истории КПСС», знаменовавшей отход даже от тех скромных разоблачений сталинских преступлений, которые появились в первое послесталинское десятилетие. В этой статье Раскольникову был уделён следующий директивный абзац: «Никак нельзя, как это делают некоторые историки, относить к числу истинных ленинцев тех, кто на деле выступал против ленинизма, участвовал во фракционной борьбе… например, таких, как Ф. Ф. Раскольников, который перебежал в стан врагов и клеветал на партию и Советское государство» [831] Коммунист. 1969. № 3. С. 75.
.
* * *
«Невозвращенство» и эмиграция представляли для большевиков 30-х годов намного более трудную проблему, чем для советских диссидентов 70—80-х годов,— не только потому, что в 30-е годы каждый невозвращенец ясно понимал, что ему угрожает гибель от заграничных ищеек НКВД, и не только из-за системы заложничества, получившей в то время в Советском Союзе статус закона. Если диссиденты недавнего прошлого отвергали всю советскую систему и открыто ориентировались на Запад, то большевики в своей подавляющей части сохраняли свою враждебность к капиталистическому строю и верность коммунистическим идеалам. Поэтому ожидать радушного приёма на Западе им не приходилось.
Характеризуя отличие невозвращенцев 1937 года от невозвращенцев прежних лет, журнал «Социалистический вестник» писал: «Тогда „не возвращались“ главным образом беспартийные „спецы“, готовые на небезвыгодных для них условиях служить до поры до времени большевистскому правительству, но внутренне не только этому правительству, но революции вообще совершенно чуждые, либо „политические“ деятели такого типа, как Беседовский, Дмитриевский, Агабеков, дальнейшая авантюристическая „карьера“ которых слишком явно доказывает отсутствие у них какой бы то ни было интимной связи не только с большевизмом, но с рабочим движением и социализмом вообще… Теперь, наоборот, от Сталина начинают бежать… люди, в которых сомнения долгие годы боролись со старой верой, которые с насилием над собой продолжали… подчас стиснув зубы, делать дело, порученное им сталинской диктатурой „от имени революции“,— пока не наступил момент, когда уже не осталось места никаким сомнениям и иллюзиям и пришлось волей-неволей сказать: не могу, дальше ни шагу!.. Их „бегство“ является поэтому одним из ярчайших симптомов всё возрастающего и обостряющегося разрыва между „сталинизмом“ и миром революции, пролетариата, социализма».
Читать дальше