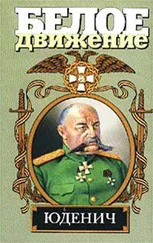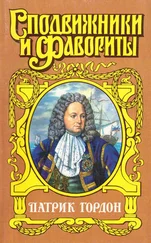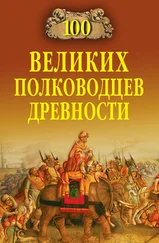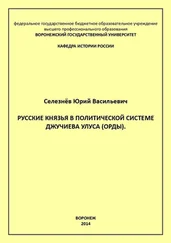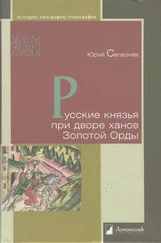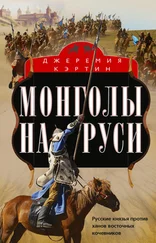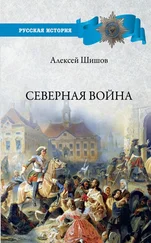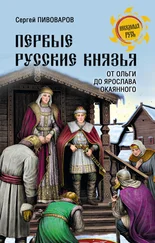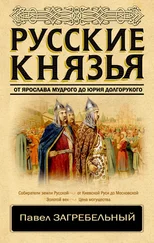Утвердив мир с Византией и выгодный договор с греками, князь Игорь «на отпуск» одарил императорских послов русскими товарами, которые всегда были в большой цене в Царьграде: дорогими мехами, челядью — рабами и воском, из которого для константинопольских храмов изготовлялись свечи. Послы приняли все это с большой благодарностью и на судах отправились домой.
Договор великого князя Игоря с Византией во многом повторял мир князя Олега. Это касалось прежде всего тех статей, где говорилось об уголовной ответственности за преступления, пребывании торговых людей и посланников, выкупе русских и греческих пленников, сыске беглых невольников, снабжении экипажей торговых судов, отправлявшихся домой.
Но были в мирном договоре и новые статьи. Русская сторона обязывалась «не творить никакого зла Херсонцам», ловящим рыбу в устье Днепра. Русы не могли там зимовать, обязываясь осенью возвращаться домой. Князь Русский обязывался не пропускать через свои владения «черных болгаров воевать в стране Херсонской». То есть не пропускать болгарские военные отряды с дунайских берегов в Крым, греческие поселения которого являлись частью Византийской империи.
Четырнадцатая статья мирного договора гласила: «Ежели Цари Греческие потребуют войска от Русского Князя, да исполнит Князь их требование, и да увидят чрез то все иные страны, в какой любви живут Греки с Русью».
Казалось, что для правления Игоря Старого наступало мирное время. Второй поход на Царьград закончился полным успехом еще до начала военных действий, с Византией заключен выгодный мирный договор. Соблюдали мир и соседи — печенеги. Но великокняжеская казна оказалась почти пустой — злато и серебро в большом числе оказалось потраченным на снаряжение двух огромных флотов, первый из которых в большей части не вернулся на Русь с Черного моря.
Пустота казны стала причиной «возмущения» собственной великокняжеской дружины, состоявшей почти исключительно из варягов. Наемные профессиональные воины-викинги отличались во все времена известным корыстолюбием. К тому же для Игоревых дружинников заразительным оказался образ варяжской дружины воеводы Свенельда, которой дозволялось самостоятельно собирать дань с отдельных русских земель.
Дружинники открыто говорили великому князю: «Мы босы и наги, а Свенельдовы отроки богаты оружием и всякою одеждою. Поди в дань с нами, да и мы, вместе с тобою, будем довольны».
Ходить в дань означало для того времени княжеский объезд, сбор с подвластных славянских племен назначенной дани. На Руси это называлось полюдьем. Оно было большим государственным предприятием и сопровождалось объездом князем и его «мужами» земель подвластных племен, прежде всего их главных городов и крупных поселений.
Полюдье совершалось ежегодно и продолжалось всю зиму — то есть шесть месяцев в году — с ноября по апрель. Часть дани собиралась местными князьями для Киева заранее и хранилась в специальных становищах, чтобы при освобождении рек — главных путей Руси — ото льда отправить собранное в стольный град Киев. Главнейшим пунктом хранения дани, по византийским источникам, на Киевской Руси могла быть крепость Смоленск.
Полюдье совершалось по строго определенному круговому маршруту. Это не был разгульный разъезд киевской великокняжеской дружины по весям и городам без всякого разбора. Размер дани был определен со всей строгостью. Поэтому местные князья заранее везли в «становища» обусловленную дань — «везли повоз».
В качестве дани бралось все, что имело товарную стоимость: меха, мед, воск, железо, зерно, изделия кузнецов и других ремесленников, деньги — серебряные гривны, вяленая рыба, скот, ткани, речные суда-однодеревки и прочие товары. Скажем, в качестве дани брали паруса. На изготовление одного из них уходило 16 квадратных метров «толстины» — грубой, но прочной парусины, или примерно 150 «локтей» ткани. Это был труд двух деревенских ткачих на всю зиму. Ткани делались из пряжи льна и конопли.
Полюдье было многолюдным. Вместе с великим князем и его дружиной для сбора дани отправлялись конюхи, ездовые с обозом, различные слуги, «кормильцы»-кашевары, «ремественники», чинившие седла и конскую сбрую, и другие княжеские люди.
Некоторое представление о численности полюдья дают слова арабского писателя Ибн-Фадлана, совершившего в 922 году путешествие на Волгу. Он пишет следующее о киевском князе: «Вместе с ним (царем русов) в его замке находятся 400 мужей из числа богатырей, его сподвижников, и находящиеся у него надежные люди…» Даже если учесть, что великий князь должен был оставить в Киеве какую-то часть «богатырей»-дружинников для защиты своей столицы от печенегов, то и в этом случае полюдье состояло из нескольких сотен дружинников и «надежных людей», то есть хорошо вооруженных воинов.
Читать дальше

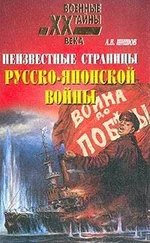
![Павел Загребельный - Русские князья. От Ярослава до Юрия [сборник]](/books/31122/pavel-zagrebelnyj-russkie-knyazya-ot-yaroslava-do-thumb.webp)