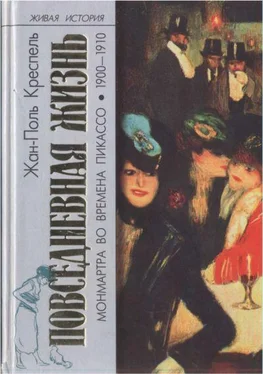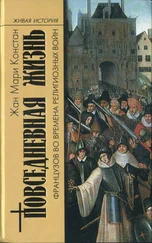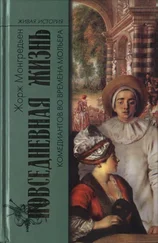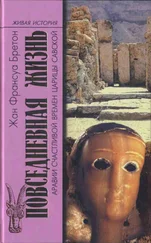Сюзанна Валадон и Андре Юттер были мало связаны с группой «Бато-Лавуар». Дега восхищался мастерством рисунка Сюзанны Валадон и покупал у нее ее эскизы. Эстетические взгляды Валадон слишком резко отличались от взглядов Пикассо, чтобы они могли найти общий язык. Ее мир — мир Ренуара, Тулуз-Лотрека, Дега… Да и разница в возрасте тоже сказывалась.
Утрилло, спиваясь, вел бродяжнический образ жизни и ходил по бистро, откуда его выгоняли, когда он начинал буянить. В мастерских к нему относились скорее равнодушно, хотя было бы неточно утверждать, как Андре Сальмон в своих «Бесконечных мемуарах» [16] Gallimard, 1955.
, что в Утрилло видели лишь «обычного пьянчужку, неисправимого, надоедливого болтуна, которого лучше избегать»; Сальмон выразил мнение тех, кто жил в «Бато-Лавуар» и в свое время не понял Руссо-Таможенника. По мнению Брака и Канвейлера, Аполлинер и Сальмон были начисто лишены художественного предвидения. Они восхищались только тем, что казалось им странным, антиакадемическим, шокирующим. А живопись Утрилло никого не шокировала. Аполлинер не «разглядел» эту живопись, новаторскую именно своей чистотой и простотой; в регулярных рецензиях на выставки Независимых художников и «Осеннего салона» он говорил о нем мельком, удостаивая лишь кивком головы, как малознакомого человека.
Справедливости ради следует сказать, что слишком мало было общего между юными волками авангарда, обосновавшимися в «Бато-Лавуар», и этим непосредственным, чистым сыном Монмартра. Родившись на улице Порто, Утрилло принадлежал миру простых людей, рабочих, служащих, хозяев бистро, накрепко связанных с жизнью Холма. В его искусстве прослеживается духовный пейзаж Монмартра, и поэтому жители Холма первыми оценили его творчество. Они попадали в родную им среду, когда видели «Мсье Мориса» или картины с изображенными на них булыжной мостовой, вывеской «Вина и Уголь», сквером с чахлыми деревцами, простеньким фасадом церкви. Утрилло был именно их художником.
Из литераторов им интересовался только Макс Жакоб, свободный от всякой групповщины и приверженности одной школе. Он знал Утрилло совсем мальчиком, а с тех пор как однажды Христос появился на стене его комнаты, стал стараться приобщить к своей вере. Он часто вел его обедать в молочную лавку на улице Габриэль, куда входил с черного хода, и рассказывал Утрилло жизнь Христа и святых мучеников. Эти беседы сыграли свою роль в последующем обращении художника к церкви. Сюзанна Валадон и не думала о том, чтобы дать сыну религиозное образование.
Однако Утрилло поминает поэта недобрым словом. Он рассказывал — и это, увы, кажется правдоподобным, — что однажды, напоив его, Макс начал к нему приставать. Утрилло не помнил, как, но ему удалось бежать.
Художники относились к сыну Сюзанны Валадон иначе, чем писатели. Вламинк и Дерен, браня его, дружили и видели в нем истинного художника, гения-самородка, приводившего их в изумление. Это чистое искусство, свободное от недостатков классической живописи, соответствовало их представлениям о свободе творчества. Наибольший интерес к Утрилло проявлял Модильяни. Они по-настоящему сдружились, вместе выпивали в бистро или на скамейке скверика Сен-Пьер, поставив рядом бутылки красного вина, как обычные бродяги. Пикассо язвительно говорил, что Модильяни пьянит уже одно приближение к Утрилло. Дружба этих столь разных художников основывалась не только на страсти к вину; Модильяни восхищала артистическая натура Утрилло, и он переживал, что художники так равнодушны к нему, а полицейские норовят поколотить. Пока Модильяни жил на Монмартре, он старался защитить Утрилло, а тот долго видел в нем единственного человека, готового прийти на помощь.
С точки зрения комфорта мастерские улицы Корто, тоже весьма непритязательные, отличались от мастерских «Бато-Лавуар» так же, как гостиница в три звездочки — от ночлежки рабочих-эмигрантов. Далекие от роскоши, квартиры улицы Корто были вполне пристойны. Сюзанне Валадон даже удалось прикупить разностильную, но хорошую мебель, которую она оформила в сельском духе. После войны, заняв прекрасный особняк на проспекте Жюно, она проявила почти фанатический интерес к ведению «домашнего хозяйства».
Деметриус Галанис, грек, словно сбежавший из комедии Аристофана, снимал эту же мастерскую до 1966 года. Он сохранил в ней все, что можно считать типичным для мастерских монмартрских художников: поразительный хаос, где несколько неплохих предметов мебели, купленных на Блошином рынке, соседствовали с макетами кораблей и диванами, покрытыми потертыми восточными коврами; по стенам — приколотые кнопками пожелтевшие фотографии; орган, настроенный самим Галанисом, который стоял рядом с литографским станком Дега, подаренным Руо, который, в свою очередь, приобрел его у состарившегося импрессиониста. Этот станок сегодня можно видеть в Музее старого Монмартра в зале, расположенном напротив выхода в сад. Оставшись в одиночестве, престарелый художник, создавший иллюстрации к самым значительным произведениям современной литературы, перестал работать. В нем что-то сломалось, когда Гастон Галлимар заявил ему, что больше не будет выпускать книги с его иллюстрациями — они, мол, вышли из моды и не распродаются.
Читать дальше