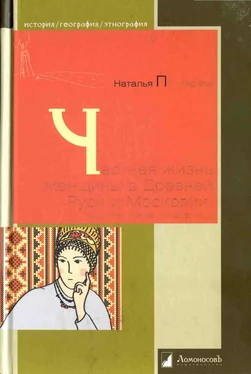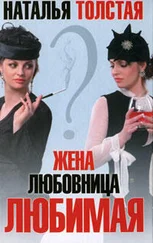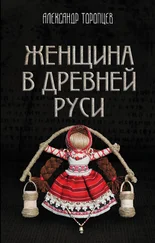Частые смерти детей накладывали свой отпечаток на отношение к ним матерей: у одних боль от их утрат притуплялась [221] Четырнадцатилетняя жена Андрея Болотова, автора мемуаров XVIII в., когда умер их полугодовалый первенец, приняла эту смерть как неизбежность, надеясь, что новая беременность поможет «забыть сие несчастие, буде се несчастьем назвать можно». (Болотов. С. 644). Такое же отношение к детям до XVII в. подчеркивалось Ф. Лебреном, в частности, на конгрессе «Дети и общество» (Париж, 1971 г.) См.: Annales de demographie historique. 1964. Enfant et societés. Paris, 1973. P. 342).
(«На рать сена не накосишься, на смерть робят не нарожаешься» [222] Дети. С. 122.
), у других — вызывала каждый раз тяжелые душевные потрясения. [223] ПоУО. С. 101.
Во многих письмах русских боярынь и княгинь конца XVII века сообщения о смертях детей окрашены сожалением и болью, в них проскальзывает горечь потери и ласковое отношение к умершим («пожалуй, друг мой, не печался, у нас у самих Михаилушка не стало»; «в печялех своих обретаюся: доче[р]и твоей Дари Федотьевны [в животе] не стало…»; «ведомо тебе буди, у Анны сестры Ивановны, Марфушеньки не стало в сырное заговейна…»). [224] А. Г. Кровкова — П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 132. С. 410; Д. Ларионова — И. С. Ларионову // ИпИРН-РЯ. № 6. С. 65 (1696 г.); А. С. Маслова — Ф. Д. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 111. С. 129.
Церковная проповедь любви матери к порожденным ею «чадам», требование «не озлобляти, наказуя», сопровождаемое обращениями к детям («мать в чести держи, болезнуй о ней») находили отклик в душах московитов XVII века. В этих наставлениях не было противоречия народной традиции, которой у многих определялись внутрисемейные отношения. В письмах родителей к детям невозможно встретить грубого к ним обращения — сплошные «Алешенька», «Марфушенька», «Васенька», «Утенька», «Чернушечька», «Андрюшенькино здоровье». В переписке конца XVII века просьбы отцов к матерям «Содержи, свет мой, в милости мою дочку…» [225] Пчела XV в. // РО РНБ. F. п. 1. № 44. Л. 72 об.; Даль 2 . С. 382–385); ПРГ. Т. II. М., 1861. С. 1.
были нормой (в приведенной цитате наводит на размышления только слово «моя» — не шла ли здесь речь о ребенке от первого брака?).
Новое время рождало новые нюансы отношений матери к ребенку. «Костенку жалуйте, не покин[ь]те, а он еще ничего не домыслет — децкое дело!» [226] Е. Ушакова — А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ.№ 80. С. 116.
— говорится в одном из писем XVII века. В более ранние эпохи такое отношение матери к ребенку — как к малому, неразумному, беззащитному, к кому надо проявлять терпение и прощать слабости — найти невозможно.
Упоминания о том, что дитя «блюли с великою радостию», «никуды единаго не отпущали», говорят о возросшем внимании к «чадам». В материнских письмах XVII века заметно трудно сдерживаемое восхищение действиями и умениями детей. Например, жена стряпчего И. С. Ларионова — Дарья Ларионова пишет мужу в 1696 году о маленькой дочке: «У нас толко и радости, что Парашенька!» — и добавляет ниже: «…А Парашенька у меня девочка изрядная, дай Господи тебе, и как станем тебя кликать — и она также кличет, и нам [этот ее лепет] всего дороже…» В другом письме она сообщает супругу о том, что дочки приготовили специально для него подарки и послали с «людми»: «Катюшка — колечко золотое, а Парашинка — платочик: колечко изволь на ручке своей носит[ь], а Парашенкиным платочком изволь утиратца на здоров[ь]е…» [227] Повесть о рождении и похождениях Соломона // ПЛДР. XVII (1). С. 455; Д. Ларионова — И. С. Ларионову. 9 июня 1696 г.// ИпИРН-РЯ. № 6. С. 65; ИпИРН-РЯ. № 7. С. 67 (1696 г.).
Все это прекрасное доказательство того, какое место в повседневности женщины и вообще в ее душе занимало все, что было связано с заботой о детях.
Давно оспоренный многими западными историками тезис о том, что в доиндустриальное время «дети больше работали, чем играли», [228] Спорность тезиса Ф. Арьеса (Ariès Ph. L’enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime. Paris, 1973) доказали многие исследователи западноевропейской семьи. См., напр.: Nicolas D. The Domestic Life of a Medieval City: Women, Children and the Family in 14 t h Century Ghent. Lincoln; London, 1986. P. 147; Hanawalt B. A. Childrearing Among the Lower Classes of Late Medieval England // Journal of Interdisciplinary History. 1977. V. VIII. S. 1-22.
не находит подтверждения и в истории русской семьи предпетровского времени. Хотя церковные дидактики требовали воспитания детей в строгости, безо всяких игр и развлечений, хотя автор Домостроя настаивал: «не смейся к нему, игры творя» (то есть не улыбаться, когда играешь с ребенком) [229] Физическая, эмоциональная привязанность оценивалась и православными, и католическими моралистами скорее негативно, зато всячески приветствовался и подчеркивался воспитательный момент в любви к детям (см.: Ронин В. К. Восприятие детства в каролингское время // Женщина, брак, семья до начала Нового времени. М., 1993. С. 19; Riché P. Éducation et culture dans l’Occident barbare. V е — VIII е siècles. Paris, 1962. P. 500–501).
— жестокосердных матерей, способных строго запретить детские игры, и детей, лишенных «материя ласкателства», было немного. [230] Измарагд XVI в. // ПЛДР. Середина XVI в. С. 55. Архив Географического общества. Д. 61. № 25. Л. 8; Антология. С. 82; Янин В. Л. Я послал тебе бересту. М., 1975. С. 56. № 46 (XIII в.); Домострой. С. 87. Симеон Полоцкий. Наказание чадом // Буш. С. 110–111.
Хотя напитанные православной дидактикой тексты велели детям быть «небуявыми», «от смеха и вских игр отгребатися», улицы русских селений и городов были наполнены гамом играющих детей, а сорванцы проказничали от души. Даже служители церкви замечали, что и самых благочестивых (вроде Ульянии Осорьиной) «сверстницы многажды на игры и на песни нудили». [231] ПоУО. С. 98; ПДП-XVII-ВлК. № 200. С. 218.
Читать дальше